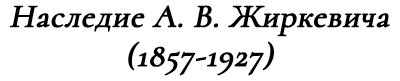Вставка, сделанная А. В. Жиркевичем
Я слишком разбрасывался в жизни, чтобы сосредоточиться на чем либо одном, почему из меня и не вышло чего-либо выдающегося в области науки, литературы, искусства, которым, как сибарит, предавался я в минуты перемирий с жизнью… Слишком рано затеплилась во мне любовь к «страждущим и обремененным». А раз такое чувство охватывает человеческое сердце, оно вытесняет все остальное, разрастается, и крепнет с годами… Мамочка была равнодушна к моим литературным, научным успехам, к моим победам на поприще общественной жизни. Она любила во мне, главным образом, человека и «все человеческое», что было мне «не чуждо»… Она подкрепляла во мне и в вас, детях, веру в чудеса Божии там, где кончались пределы воли человеческой, желаний и надежд…
У Мамочки было хорошее здоровье. Зная, что мать ее умерла от чахотки, она приучила себя с юности, к обмываньям холодной водою шеи и груди. Вообще она (не то, что я) простуд не боялась. Приучала она к обмываньям и вас. И, тем не менее, мы потеряли Варюшу из-за туберкулеза мозга… Начиная набрасывать эти мои воспоминания, я не хотел повторять то, что я, недавно, в Москве, сообщал тебе о болезнях среди членов моей семьи. Теперь мне кажется, что «памятка» будет неполная, если я не коснусь и этой стороны нашего быта. О смертельных болезнях Гули и Варюши я уже тебе рассказал.
В детстве, когда мы жили в Вильне, на Большой Погулянке, в доме Бойко, на втором этаже, ты, Манюточка, опасно захворала скарлатиной и тебя, с Мамой и няней отделили в особую комнату, в которую можно было, заглядывать с большого балкона, выходившего в сад. Домашним врачом по детским болезням был у нас военный врач Феодосьев. Этот симпатично относившийся к нам человек, когда скарлатина у тебя кончилась, не принял меры, чтобы предохранить тебя от последствий болезни: у тебя началась болезнь почек; ты стала пухнуть. Бывало, я загляну к тебе с балкона, через закрытое окно (дело было летом или весною), – и Мамочка показывает мне тебя (тебе было несколько лет), лежащую на спине с раскинутыми в сторону ручками, всю опухшую, налитую водой. Мы глядим с Мамочкою друг на друга через окно и плачем, чувствуя, что можем потерять тебя. А Феодосьев все занят анализами мочи и не принимает серьезных мер к твоему исцелению. Тогда, с его согласия, я пригласил на консилиум известного виленского врача Зайонковского, и тот сразу же энергичными мерами поставил тебя на ноги.
Когда мы жили, еще ранее твоей болезни, на Большой Погулянке, в доме «пани Богданович», то у нас родился Боря, прелестный мальчик, для которого наняли кормилицу. Мамочке, в виду опухоли в одной из ее грудей, запрещено было самой кормить детей, что, к слову сказать, ее очень огорчало, а жизнь нашей семьи осложняло необходимость нанимать капризных, а, зачастую вздорных кормилиц. Тебя кормила грудью сама Мамочка. Малютка был <2 сл. нрзб>, и мы очень были рады его появлению в семье. Но вдруг у него сделался на спинке огромный нарыв. Мамочка, после родов, еще не вставала в виду каких-то осложнений ее болезни. Пользовал ее акушер Петрашкевич (впоследствии спасший ее от смерти). Он начал лечить и малютку, пригласив и другого врача и, вдвоем, они погубили ребенка, ежедневно разрезая новые нарывы, которые стали появляться у него, в разных местах, на тельце, после того, как, очевидно преждевременно, не дав назреть, вскрыли нарыв на спине. Образовалось общее, гнойное заражение крови, и ребенок, прожив около месяца, скончался в страшных мучениях. Помню, как ночью, когда Боричке стало плохо, я пошел по сонному городу (кажется, было лето) за Петрашкевичем. Глядя на сверкавшие в небе звезды, я так молил Бога – не отнимать у нас с Мамочкою сынка, которого мы наскоро окрестили, в виду его болезни, при чем восприемниками от купели были нанятая, в помощь Мамочке, из богадельни няня и денщик наших хороших знакомых Червинских, живших с нами в одном доме. Петрашкевич застал Борю уже в агонии и, когда ребенок скончался, осенил его трупик польским крестным знамением.
Хорошо помню, как мы, живя в Смоленске, спасали Тамарочку от дифтерита. Лечил ее известный врач Чудовский, к которому позднее, из Вильны, в его женскую больницу, для операции ездила Мамочка. Не зная, что такое у ребенка, мы запустили болезнь и, когда определились, что это дифтерит, Тамарочка уже начинала задыхаться. Спасти ее можно было только привитием антидифтерийной сыворотки, которой во всем городе, к ужасу и горю моему и Мамочки, не оказалось. Пришлось ездить мне за город, в больницу. Наконец, я привез сыворотку без уверенности в то, насколько она годна. Сделали первые впрыскиванья (при горячих молитвах Мамочки). Дело было, насколько помню, зимою. Ночью мне показалось, что Тамарочка задыхается. Я бросился за Чудовским и, несмотря на то, что он был болен и с вечера взял ванну, разбудил его и притащил на квартиру. Я ждал, что он объявит нам смертный приговор ребенку. Как вдруг Чудовский прислушавшись к тяжелому дыханию Тамарочки, объявил нам, что она спасена, так как, в виду распадения – от прививки сыворотки – дифтерийных пленок, дышит уже носом. Мы с Мамочкою плакали от радости, а я над кроваткой спящей, прелестной Тамарочки, обнимал равнодушно относившегося к моим восторгам доктора…
Самую тяжелую память по себе оставила во мне внематочная беременность Мамочки, чуть не унесшая ее в могилу. Уезжая в Петербург в отпуск, я знал, что Мамочка беременна (Мы жили в том же доме «пани Богданович», котором родился и скончался Боря). В Петербурге, среди родных и друзей литературно-художественного мира, мне жилось весело и приятно. Ничто не предвещало домашней катастрофы. Я должен был обедать у Ник. Ник. Герарда, а друг мой худ. И.Е. Репин устроил нарочно для меня вечер, на который собрал разных знаменитостей, чтобы меня с ними познакомить. Как вдруг, точно удар грома среди безоблачного дня, от моего брата, извещение, что Мамочка опасно заболела. Конечно, послав ответную телеграмму и разослав по городу извинительные письма с уведомлением о причине внезапного моего отъезда, я, курьерским поездом, вечером того же дня, помчался в Вильну, с предчувствием семейного несчастья. Когда, на вокзале увидел я встречавших меня, брата моего и полковника Любу, то уверен был, что они выехали для предупреждения меня о смерти Мамочки. Но они объявили мне, что она жива, хотя находится в крайне опасном положении. От них я узнал, что Мамочка, встав рано утром, почувствовала себя дурно, пошла в отхожее место, где ей сделалось дурно от схваток в желудке, так что она едва имела силы выйти в коридор, где упала, потеряла сознание, и, хотя пришла в себя, но лежала в полусознательном состоянии. В квартире я застал встревоженных тетю Варвару Ивановну, моего отца и мать, а также акушеров Петрашкевича и Эрбштейна и хирурга Дембовского, с инструментами для немедленной операции, и фельдшера. Находили нужным попробовать делать операцию, за исход которой в виду слабости больной (сильное кровотечение внутрь) не ручались. Мнения акушеров о причинах болезни расходились. У Мамочки шел первый или второй месяц беременности. Эрбштейн находил, что у нее распалась какая-то внутренняя опухоль, вызвав обильное внутреннее кровоизлияние. Петрашкевич же определил болезнь, как внематочную беременность, от которой умирает, как он уверял, 99 процентов. Мамочку я застал лежащей на спине, без подушек, в разорванном, окровавленном белье: ее боялись тронуть, чтобы не вызвать нового кровотечения. Больная была в сознании, но так слаба, что не могла говорить и шевелить руками. Она узнала меня и бледно мне улыбнулась. В общем, в ней замечалось какое-то безразличное отношение к окружающему. Ждали от меня согласия на операцию, тут же, в квартире, без хлороформа, в виду слабости сердца. Мне ясно представилось, что вскрытие полости живота при таких условиях, с новым кровоизлиянием, убьет Мамочку. Такого же мнения был и Петрашкевич, хотя он и высказывался с разными оговорками, Дембовский настаивал на операции. Что-то подсказывало мне, что Петрашкевич прав. Я встал на его сторону. На мой вопрос, умрет ли Мамочка спокойно, без страданий, если ей не будут делать операции, Петрашкевич ответил утвердительно, ни за что, однако, не ручаясь. В жизни моей, в критические минуты, мне редко приходилось колебаться. Так, и в данном положении, я поблагодарил Дембовского и Эрбштейна за их визит и заявил, что в виду слабости жены, на операцию не согласен, и удержал в квартире Петрашкевича. Когда все, в том числе и мои родные, ушли, и мы с ним остались наедине, я объявил ему, что вполне ему доверяю, прошу сделать все возможное для спасения дорогой мне жизни, предупредив его, что, если Мамочка и умрет, я не буду на него в претензии. С этого дня, по указанию Петрашкевича и под его руководством, я обратился в фельдшерицу – акушерку при Мамочке. Поставили около ее кровати кресло, и в нем я проводил целые дни, не ложась в кровать, а, дремля, когда одолевала усталость. Благодаря «шоку» у Мамочки остановилось естественное отделение мочи: мочу приходилось выпускать искусственно, с помощью катетера, что я и научился делать. Приходилось делать подкожные впрыскивания, давать разные лекарства, прикладывать компрессы, следить за пульсом и температурой больной и т.д. Все это я и проделывал единолично… Так прошло недели две-три. Самочувствие Мамочки все улучшалось, но кровяная опухоль в животе не распадалась. Приходилось надеяться на чудо Божие. И это чудо свершилось. У Мамочки образовался в прямой кишке нарыв, открывшийся наружу, в кишку, и через него, при испражнениях, стали, постепенно, выходить отдельные части еще не сформировавшегося зародыша. По указанию Петрашкевича я отделял их от испражнений и собирал в отдельную банку. Когда все вышло, Петрашкевич пригласил Эрбштейна, показал ему собранное и доказал ему правильность своего диагноза. Затем, отверстие в прямой кишке закрылось, опасность прошла, Мамочка стала вставать, и, наконец, совершенно оправилась. После этой болезни, она имела детей. Петрашкевич возил ее к своему знаменитому профессору – акушеру Красовскому, и о болезни Мамочки поместил заметку в каком-то медицинском журнале.
В то время, когда Мамочка верила в чудеса от мощей и икон, я давно утратил эту детскую, наивную веру. Но в чудеса природы, усматривая здесь Божие милосердие, равно как и в чудеса жизни, во мне и сейчас живет «детская вера», хотя я, логически, не в состоянии объяснить себе, как совершилось в жизни моей или окружающей данное событие… Во время революции я не раз находился на краю гибели и, когда опасность проходила, благодарил не только спасавших меня людей, но, прежде всего и, главным образом, Бога… Весь Божий мир, тайн которого человечество никогда не постигнет, кажется мне полным чудес, начиная с бесчисленных миров, брошенных в пространство невидимою, неизвестною нам рукою, движущихся мириады веков, с точностью часового механизма, по какому то предвечному плану, и кончая травками и полевыми цветочками, мошками и бактериями, живущими для чего-то своей особою жизнью… При такой вере в участие Божества в жизни всего живущего, и смерть становится не страшна, т.к. может ли быть с окончанием земной нашей жизни хуже, если мы уходим к Тому самому Божеству, которое послало нас в мир и столько раз проявило в отношении нас свои любовь и попечительное милосердие? Страшна не смерть, а предсмертные муки…
Помню, как во время революции, будучи арестован и ожидая смертной казни, я, ночью, заметив слезно молившихся у иконы (к слову сказать, заброшенной окурками махорочных «ножек» и другой дрянью) двух приведенных откуда то мужичков, утешал их, доказывая, что при той вере, которую они проявляют в молитве, смерть не должна пугать их: если люди их расстреливают, то потому, что так угодно будет Богу. В душном, зловонном, набитом узниками всякого положения, пола и возраста, каземата, было сонное молчание: все спали; некоторые, сидя, так как не было места и лежали по очереди. Мне удалось успокоить мужичков. Они благодарили меня за утешение…Я, меняясь с одним студентом местом на узкой скамейке, заснул. А когда проснулся, то мужичков в помещении не было: их расстреляли. Вещи же их, по утру, вынесли красноармейцы… Я старался убедить несчастных, избитых до крови, не только в том, что «все совершается по воле Божией», но и в возможность «чуда» спасения их от смерти. «Чуда» этого не совершилось. Но разве мы можем, своим конечным умом, постигнуть планы Божества, ведущие нас к спасению не в физическом, а в духовном смысле?!. Как бы я хотел, чтобы и вы, детки, заразились от меня моею верой в чудеса!.. Сколько их совершается и сейчас в вашей жизни!!. Только вы этого не замечаете…
У Гули и в Смоленске было влечение ко всему военному. Он любил ходить около древней Смоленской стены и ее башен, отлично зная их историю, делал с них наброски, любил рассказывать о сражениях под Смоленском в 1812 году. У него была прекрасная память и сильное воображение. Мамочка купила ему велосипед, на котором он и делал длинные прогулки по городу и за город. Когда Гуля пожелал учиться рисованию, мы наняли для него, в качестве учителя рисования, жившего в Смоленске известного художника В.С. Крюкова. Гуля и тут стал делать быстрые успехи. Он весьма удачно схватывал особенности тех лиц, с которых рисовал. У меня сохранился портрет моей матери, сделанный им с натуры карандашом, удивительно похожий. Революция 1904-1905 гг. застала Гулю в Смоленском реальном училище, где он, вообще мало сходясь с товарищами, совершенно разошелся со многими из них, когда между воспитанниками начались беспорядки и анархическое брожение. Часто возвращался он домой мрачный, расстроенный. Но мне дорого было в нем то, что он умел постоять за свои убеждения. Все-таки его тянуло на военную службу, к морю. И когда он, будучи, затем, в Вильне, пожелал идти в Морской корпус, мы отдали его в пансион под Петербургом для подготовки по тем предметам, которые не проходились в реальном училище. Поступив в Морской корпус, Гуля быстро пошел там одним из первых, любимый и начальством, и товарищами. Он писал нам оттуда бодрые письма, а, приезжая на каникулы, о многом нам рассказывал, с присущими ему юмором и наблюдательностью. Бывая в Петербурге, я посещал Гулю в корпусе, любуясь его воинской выправкою и сожалея, что так любившая его бабушка не дожила до того, чтобы увидеть внука в военной форме. Гуля рассказывал, что, по случаю какой-то свадьбы, корпус посетил вел. кн. Константин Константинович. Гулеша, как дежурный по корпусу, ему рапортовал. Когда директор корпуса представил Гулю, после рапорта, великому князю, назвав его «Жаркевичем», великий князь поправил директора, заметив, что фамилия не Жаркевич, а Жиркевич, а, затем, милостиво говорил с ним обо мне. Позднее, будучи у Его Высочества, я благодарил его за внимание, оказанное моему сыну. У Гулеши многое было своеобразно. Будучи с нами на даче у станции железной дороги «Подбродзье», он пошел в лес рисовать с натуры. Вернувшись же, рассказал, что около того места, где он рисовал, бродила какая-то, особого вида, большая собака. По признакам, это был волк. О чем я и сказал Гуле. Чтобы его не заподозрили в трусости, Гуля сейчас же вернулся, безоружный, на это место, где рисовал, но волка уже не нашел…
Покойная бабушка моя Мария Осиповна Астафьева, с Гулиного детства его горячо любившая, всегда рассказывала ему о походах мужа, о сражениях, в которых участвовали наши предки, развивая в нем любовь к военной службе. Гуля тоже ее очень любил… Помню такую сцену из эпохи раннего детства Гулеши. Ему года два. Он нездоров, сидит на кровати и капризничает. Тогда, чтобы занять его, три «бабушки» – моя мать, моя бабушка Мария Осиповна и Варвара Ивановна Пельская становятся против его в ряд и, по правилам старинного танцевального искусства, приподняв слегка, с боков, платья, выделывают ногами танцевальные «па», чем и приводят мальчика сначала в изумление, а потом в веселое настроение…
Я любил вам, в детстве вашем, рассказывать бесконечные сказки моего сочинения со страшными всевозможными приключениями героев и героинь, растягивая их иногда умышленно, чтобы заинтересовать вас на несколько дней. Чего-чего только не вспоминается теперь мне из вашей детской жизни. И всюду то, в центре всего, наша Мамочка! Точно сон какой-то… Не верится, что все это счастье, на самом деле, было!.. Все же я помню вас маленькими. Мамочка же, по ее словам, была в состоянии представить вас не только в разном возрасте, но когда, в каких платьицах вы ходили. Впрочем, память у нее была удивительная. Она, например, помнила, что, лет 10-15 тому назад, подавалось за обедом и ужином, когда она бывала в гостях. Она помнила отлично массу анекдотов из жизни родных и друзей. Как жаль, что я не исполнил своего намерения – записать все это, с ее слов, для вас! Это была, так сказать, ходячая фамильная хроника…