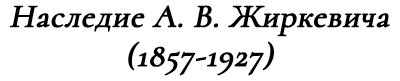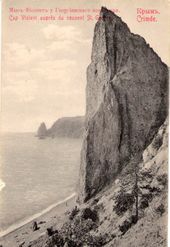Иван Константинович Айвазовский
(1817-1900)
В гостях у Айвазовского…
В начале осени 1890 года мой дед Александр Владимирович Жиркевич — военный юрист и начинающий литератор — приехал на лечение в Ялту, как было принято в те времена, надолго. Он с интересом посещал достопримечательности Крыма, любовался Ай-Петри, наслаждался видами моря ( «Увижу ль я тебя опять, страна очарованья?!» ), провел день в Севастополе… Вскоре Жиркевич вновь побывал в этом городе, но уже вместе с приехавшей к нему из Вильны молодой супругой Катей . К тому времени они два года счастливо женаты, в семье подрастает маленький сын Сережа, ласково называемый дома Гуля.
В дневнике Александр Владимирович запишет:
«Только что вернулся из Севастополя, где встречал мою дорогую Каташечку. Теперь я опять счастлив! Бродя по руинам Севастополя и осматривая достопримечательности, я пришел к заключению, что грустно-горделивое чувство, возбуждаемое во мне, как в русском, этим городом — не есть капризное впечатление минуты… Нет! Я вновь пережил то же, что уже ранее переживал при первом посещении этого великого города-страдальца! Присутствие Каташи усиливало впечатление и придавало ему особенный оттенок! Я рад, что и Каташечка сподобилась видеть священное место, и что у нас с ней одним общим глубоким воспоминанием больше».
Побывали они и в Бахчисарае, вспоминая там трогательную историю, поведанную А.С. Пушкиным в романтической поэме «Бахчисарайский фонтан». Жиркевичу захотелось описать свое видение этой легенды; он сочинил стихотворение «Бахчисарай» .
Узнав, что в Феодосии живет знаменитый маринист Иван Константинович Айвазовский, Жиркевич пишет ему письмо и прилагает автобиографическую поэму «Картинки детства» (свое первое крупное произведение). Вскоре Александр Владимирович получает ответ и приглашение посетить художника:
Феодосия 4-го Окт[ября]
Получил 5 окт. 1890 г. в ЯлтеМногоуважаемый Государь Александр Владимирович.
Спешу выразить Вам сердечную мою благодарность за дорогое внимание. При Вашем любезном письме, получил Вашу книгу, которую с великим удовольствием прочту.
Я много слышал про Вас и буду счастлив познакомиться. На вопрос Ваш, буду ли в Феодосии, скажу, что до 12-го октября буду дома, затем еду на неделю в Симферополь, и с 20-го октября по 3-е ноября тоже буду в Феодосии. На зиму еду в Петербург. Очень буду рад, если Вы посетите нашу Феодосию, которая после Южного берега, производит весьма грустное впечатление.
Прошу покорнейше принять уважение (так в письме. — Н. Ж.) в глубоком моем уважении.
И. Айвазовский.
Получив письмо, Александр Владимирович решает ехать в гости к Айвазовскому, ожидая увидеть маститого живописца, занятого только проблемами творчества. Проведя день в доме художника, он отмечает в дневнике, что первая встреча его разочаровала помпезностью обстановки и светскими разговорами. Однако вскоре неприятное впечатление сменилось удивлением и неподдельным интересом к личности Ивана Константиновича . Он раскрылся в неожиданном для Жиркевича свете, будучи не только мастером, вызывающим восхищение, но и человеком, много сделавшим для своего города. Александр Владимирович был поражен тем, что горожане постоянно упоминали имя Айвазовского, улыбались и кланялись ему при встрече. Вот что записал Жиркевич, возвратившись в Ялту:
1890 г. 7 октября. Ялта.
Только что вернулся из путешествия в Феодосию, которое я сделал, чтобы увидеться с художником Иваном Константиновичем Айвазовским, пригласившим меня к себе очень любезным письмом в ответ на посланную мною ему мою поэму. До этого времени, хотя и встречал Айвазовского, но лично с ним знаком не был.
Поездка на пароходе, особенно две ночи, во время которых была качка, меня порядочно утомили. Тем не менее, я доволен своей поездкою. Айвазовский и милая супруга его Анна Никитична приняли меня очень радушно. Но сам Айвазовский произвел на меня два различных впечатления: 1) когда я был у него первый раз с визитом и 2) во время обеда у него. Первое впечатление было очень не в пользу Ивана Константиновича: передо мною явился важный барин, бюрократ, знаменитость, сознающая свое значение… Я застал у него городского голову, который что-то толковал с ним о Феодосии и ее нуждах.
Тем не менее, Айвазовский очень любезно повел меня по квартире показывать свои картины, между которыми есть чудные вещи. Затем он сошел со мною в свой музей, где мы застали какого-то господина, что-то заносящего в свою записную книжку. Айвазовский, узнав, что он приехал пользоваться местными купаниями и, между прочим, хочет послать в газету заметку о музее, любезно предложил ему свою купальню и велел слуге проводить этого господина туда… Во время всей беседы с незнакомцем Айвазовский значительно цедил слова и свысока, покровительственно улыбался… Когда мы вернулись в квартиру, то у меня с ним завязался разговор, который я, конечно, хотел направить на самую, по-видимому, интересную для нас обоих тему — искусство. Но Айвазовский сейчас же перешел на нужды Феодосии, на то, что он сделал для города, причем ему, видимо, было приятно, что я заметил, насколько в городе его имя популярно. Неприятно поразило меня то, что на каждом шагу он упоминал о знакомстве с Деляновым, Дурново и другими бюрократическими тузами, называя их по именам и отчествам. Не понравилась мне и вся его богатая, показная, бросающаяся в глаза гостю обстановка: всюду золотые стулья, зеркала, рамы — все золоченое, как в купеческих домах, даже драпировка в зале золотистого цвета. Между вещами, действительно художественными, попадаются вещи безвкусные. В гостиной на виду расставлены карточки особ царской Фамилии и министров, с надписями по адресу хозяина дома, причем все эти карточки поставлены так, что надписи читаешь невольно. Кроме этих особ не поставлено ничего. Наконец, в соседней комнате огромный портрет Ивана Константиновича во весь рост, рисованный им самим, где он изобразил себя в расшитом мундире, обвесил себя всеми звездами и орденами , как русскими, так и иностранными, которые имеет, поместил сзади себя картину — вид моря, на столе поставил карточку своей жены, а себе придал вид какой-то особы императорской Фамилии, как их изображают на официальном портрете…
От всех этих подробностей квартиры как-то невольно коробило! Невольно приходит на ум: нужна ли знаменитому художнику такая реклама о связях и почестях мирских?! Наружность Айвазовского в первую минуту производит невыгодное для него впечатление: среднего роста, довольно тучный, обрюзгший, без усов, с дипломатическими бакенбардами, длинными седыми волосами с черными, проницательными молодыми глазками, он похож на самого заурядного правителя какой-нибудь департаментской канцелярии. Если бы не знать, что перед собой видишь творца «Девятого вала» то, наверное, принял бы его за живописца, погрязшего в самодовольное созерцание своего бюрократического положения и гордящегося тем, что он, наконец, дослужился до известного оклада жалования, дающего ему возможность завести себе раззолоченную мебель и повесить свой портрет во весь рост в гостиную со всеми декорациями для вящего вразумления посетителей.
Я невольно сравнил хозяина этого дома с Репиным и мысленно положил между ними бездну… Из музея Айвазовский провел меня в свою мастерскую – огромную, светлую, почти без всяких украшений комнату, где довольно долго показывал свои новые картины, оконченные и неоконченные. Что ни картина – то поэма!.. Неужели этот тайный советник, царек Феодосии – творец всех этих чудес?? В мастерской стоит огромный холст, едва только зачерненный углем – будущая картина Айвазовского «Переход израильтян через Чермное море». Айвазовский заметил мне, что недоволен своей картиной того же содержания, повешенной у него в музее и задумал написать для предполагаемой в этом году выставки его картин в Петербурге нечто новое и оригинальное … Показывал он мне и некоторые свои этюды, один из которых, наудачу, подарил мне. Признаться, этюд более чем небрежен, и я бы на месте Айвазовского, видимо, заботящегося о своей репутации, не делал бы таких подарков… При рассказе о содержании своих картин Айвазовский немного оживился, глаза его засверкали, и когда он сказал, что «не может жить без работы в мастерской», я поверил… этому невольно.
Когда я, для приличия, похвали его портрет (в орденах), то это было ему, видимо, приятно, он понял мою любезность и заметил, что портрет, писанный два года тому назад, ему самому не нравится, и он намерен его переписать заново. Когда же я восторгался большой картиной его, висящей в гостиной, на которой изображены красные скалы, чайки и море, о скалы разбивающееся, то он заметил: «Да, это сильная вещь!». Показывал он мне бегло и свои юбилейные подарки и все пересыпал рассказы о них именами министров и сильных мира сего… И снова меня коробило от этого неуместного хвастовства своими связями со стороны несомненного таланта, которого будут помнить тогда, когда эти имена забудутся. Наговорив кучу общих мест о моей книге и представив меня своей жене, Айвазовский опять углубился в беседу с городским головою, пригласив меня «запросто на обед в 4 1/2 часа». Я понял, что дальнейшее мое пребывание может его стеснить и откланялся…
Отправился я осматривать Феодосию. Жалкий, из пепла возрождающийся городишко, местность самая безотрадная… Только и хорошо вечно шумящее море, довольно гармонично шелестящее морским песком у подножия развалин древних башен, по преданию построенных еще генуэзцами. В городе на каждом шагу все говорит об Айвазовском. Бульвар называется «Айвазовским» и фонтан «Ивана Константиновича Айвазовского». В музее на горе картины Айвазовского и портрет генерала Котляревского … В главной церкви запрестольный образ – «Христос, идущий к Петру по морю» – работы Айвазовского… Везде на устах имя Айвазовского: в гостинице, в лавках, и надо сознаться, что его хвалят как доброго, хорошего человека вообще, и в частности, как благодетеля Феодосии. Но зачем только намазывал свое имя на иконе, да так, что его можно прочесть с середины церкви?..
В 4 часа я был у любезного хозяина: застал там m-me Виноградову, очень хорошенькую и бойкую дамочку, жену главного военно-морского прокурора, с мужем которой я познакомлен был в тот же день Айвазовским, и камергера Хрущева, состоящего чем-то при Победоносцеве. До обеда мы сидели на террасе дома, откуда видно было море, город и дача Суворина, ─ дикой безвкусной архитектуры. Хотя было довольно светло, но обедали, накинув верхнее платье, на открытом воздухе, на нижней террасе, обросшей виноградом. Во время обеда Айвазовский принес попугая, а затем пустил фонтан, и под его журчание я с аппетитом пообедал. Между прочим, подавался шашлык (местное блюдо), которое я ел в первый раз, но о котором много и читал, и слышал.
За обедом более всех говорил Хрущов, более на религиозные темы, доказывая, что переход из одной религии в другую, особенно в православную, понятен, а Иван Константинович и Виноградова его опровергали, причем первый доказывал, что очень редко меняют религию по убеждению, [а] не из выгоды, а вторая довольно умно развивала мысль о том, что не надо бросать веру своих отцов…
Перешли на вопрос о духовенстве, и Хрущов, видимый знаток в этом деле, рассказывал много интересных фактов. Он жалуется на дурной по качеству состав нашего духовенства… Недавно об этом же вздыхал в разговоре с ним и Победоносцев… Откуда взять хороших священников?
«Не очень давно, – рассказывал Хрущов, – я был у Орловского архиерея, жалуясь на одного батюшку, по просьбе знакомых. Владыка, выслушав мою просьбу, пошел в другую комнату и принес огромную книгу, в которой поименовано все духовенство его епархии, с отметинами о нравственных качествах, о семейном положении и т.д. Открыв книгу на листе, где стояла фамилия священника, о котором шла речь, Владыка показал, что там записаны все его проделки и наказания, которым он подвергался за них, а на другой странице стояло 7 человек детей. Тогда Владыка и сказал мне: “Вы, Ваше превосходительство, говорите прогнать его, а что станем мы делать с его детьми, ни в чем не повинными? И кого я дам Вам вместо него? Все более или менее с большими недостатками, и у всех семьи, все бьются и грешат из-за куска хлеба… Вы думаете, я не знал ничего про этого священника? Нет, все знаю, но молчу. Молчу, потому что не в силах что-либо сделать! И по той же причине, моему [два слова неразб.] дать лучших священников. Я откажу Вам в Вашей просьбе: указываемое Вами лицо еще из не очень скомпрометированных” – “Тогда, – продолжал Хрущов, – я указал ему на семинарию, как на средство воспитать хороших священников” – “Да, но архиерей играет там весьма скромную роль, и его почетный надзор, скорее бремя для него, чем польза для дела”, – отвечал Владыка».
Хрущов восторгался нашим Виленским Алексеем, которого хорошо знает и к которому посылает через меня записку, с просьбою о высылке фотографий.
«Одно, что кладет тень на его деятельность – это то, что он никогда не говорит проповедей», – заметил Хрущов. «Это известно и Победоносцеву, который хотя и самого высокого мнения об Алексее, но зовет его «нашим молчальником». Такой умница, как Алексей, мог бы много пользы приносить своими поучениями».
Тут вмешался в разговор Айвазовский и высказал довольно абсурдную мысль, что много говорят только дураки и заурядные люди, что истинно талантливые люди больше молчат, что Пушкин мало говорил (?!) и т. д. Я, в свою очередь, сослался только на одних духовных ораторов – Макария, Иннокентия, и других, выразив сомнение, чтобы у нас могли быть данные для того, чтобы заподозрить Пушкина в молчании…
Заговорили об Иоанне Кронштадтском, его чудесах… Затем Хрущов стал проводить ту мысль, что при нашем духовенстве через 100–200 лет православие должно пасть и перейти в католичество, так как ксендзы умнее, а католическая религия все разрешает под известными условиями.
«А, между тем, только Православие и составляет истинно нравственное учение, и только православная Россия со временем может послужить оплотом мира Европы!» Айвазовский обошел политично вопросы о православии и заметил, что нельзя так огульно бранить все прочие религии: «Во всяком даже лжеучении есть своя доля истины! Пашковская религия – абсурд, а между тем, изучите ее, и вы увидите, что и в ней есть доля истины. Некоторые раскольничьи толки имеют в основе верные, только затемненные обрядностями идеи… Нельзя, поэтому, только одну религию считать истинной: в каждой религии есть то, что дорого человеку известного склада ума и что он считает за истину непреложную. Поэтому всякая религия имеет законное право существовать».
Хрущов подробно расспрашивал меня об Алексее и приводил параллели между ним и другими Владыками, не очень для них лестные… Видимо, он всю жизнь вращается в этой сфере и хорошо знаком с бытом духовенства, как высшего, так и низшего.
Мы много говорили с Хрущовым о предстоящем открытии памятника в Симферополе, о польском вопросе в северо-западном крае, но Айвазовский более помалкивал, вероятно, помня свой взгляд о много говорящих. Супруга его тоже молчала, как бы боясь высказывать при муже.
После обеда все пошли на верхнюю террасу, откуда чудный вид на море. Айвазовский [неразб]. куда-то с Хрущовым. Виноградова уехала, и я остался один с Анной Никитичной. Тут она вдруг разговорилась о литературе, об отсутствии общественной жизни в Феодосии, о любви своей к поэзии. Видимо, что это простая, добрая и неглупая русская женщина, чуждая аристократизма, которым окружил себя ее супруг, и едва ли счастливая в семейной жизни (из разговоров ее с Айвазовским о какой-то поездке, против которой она восставала, и которую она все-таки сделала, и из некоторых полуслов между ними и взглядов, я заключил три вещи: 1) что Айвазовский страшно ревнив, 2) что согласия между супругами немного, 3) что покорная и молчаливая по наружности Анна Никитична не принадлежит к числу тех женщин, которыми можно вертеть по капризу.
До чаю и за чаем Айвазовский явился уже мне во втором своем виде, более для меня симпатичном. Заговорили об искусстве, и на этот раз он много и долго говорил, как об искусстве вообще, так и об Академии художеств и русских художниках в частности. Он выше всех ставит Репина, находя, что тот, как человек, странный (это же заметила и супруга Айвазовского о Репине. Что они нашли в Илье Ефимовиче странного – не знаю!) «Хотя это и урод, – заметил Айвазовский, – но такого урода наша Академия должна залучить к себе. Он единственный у нас! Я еще недавно говорил об этом в Петербурге кому следует!»
Относительно новых проектов о порядках в Академии художеств, Айвазовский рассказал, что получил циркулярное письмо от Великого Князя Владимира Александровича, в котором его просят разрешить некоторые вопросы, высказав о них откровенное мнение!
«Главное и оригинальное, что я написал в Петербург, – говорил Айвазовский, – и что, вероятно, удивит многих – это мое мнение, основанное на личном опыте прохождения курса в Академии, что нельзя во время этого курса смешивать в одно лекцию по наукам и занятия по живописи; одно другому будет непременно мешать! По себе знаю, что раз отдавшись серьезно работе творчества, не можешь с успехом заниматься чем-либо другим, и наоборот, усталость от занятия предметами курса непременно ослабит свежесть творчества. Осень в Санкт-Петербурге отличается мрачными днями, во время которых рано наступают сумерки, и в течение которых писать картины нельзя. Пусть бы эту осень (3 месяца) всецело отдали изучению курса анатомии, теории искусства и т. п. предметам, не заставляя учеников писать картины и вообще предаваться занятиям, требующим сосредоточения творчества. От такого порядка только выиграет преподавание предметов, которое станет и дешевле, так как учителя будут наниматься на более короткий срок и, в общем, будут брать менее, чем теперь, когда курс растянут на год. Это – главная моя идея, которую я проводил. Затем, я нахожу, что следует обращать более внимания на наши самородки, допуская их в Академию без требования строгого образовательного ценза, и по принятии в Академию, если у них недюжинный талант, давать и им возможность брать частные уроки на стороне, и тем дополнять пробелы своего образования. Что за толк, что у нас масса учеников-посредственностей, принятых только потому, что удовлетворяют известному образовательному цензу. А какой-нибудь Репин может и не попасть в ученики и, за нуждой, сбиться со своего прямого пути. Далее, я нахожу необходимым, чтобы Академия направляла таланты своих учеников на свойственную каждому из них дорогу и не давала бы ученикам возможности избирать род живописи по личному капризу. Иной, увлекшись картиной Судковского, Айвазовского, вообразит, что он тоже призван быть маринистом, и примется за писание видов моря, не имея к тому никакой способности… Молодежь часто ошибается в определении своих способностей: дело стариков направлять ее с ложного пути на истинный! Родители тоже смотрят на своих детей и пристрастно, и странно. Иной раз общую черту всех детей – стремление все пачкать и закрашивать, родители принимают за талант. Не раз мне приходилось видеть таких родителей и выслушивать их просьбы посмотреть на рисунки их детей, нет ли у них таланта? Я всегда обдавал такие заискивания перед моим мнением холодной водой беспощадной иронии и критики. Родители рассуждают так! «Айвазовский имеет от своих картин, положим, в год 20 тысяч дохода. Но, он, конечно, – талант! Наш же сынок менее талантлив… Ну пусть у него будет 1/2, 1/4 таланта господина Айвазовского, и он, в таком случае, будет иметь в год 10,5 тысяч дохода… Все же это лучше, чем жалованье какого-либо столоначальника… Родители не понимают всей глупости своей теории дробления таланта! Разве его можно так делить! Или талант, или заурядность – другого выхода нет! Я всегда восставал и восстаю против теорий предоставления свободы молодежи в выборе себе жанра живописи, так как видел многочисленные пример того, к чему это ведет».
Айвазовский в дальнейшей беседе критиковал страшно рутину в преподавании многих предметов в Академии художеств. Например, изучение анатомии в том объеме, как оно существует там, он считает не только лишним, но и прямо вредным.
«Все эти мускулы, кости, нервы – все это только сбивает с толку ученика. Ведь потом как будет писать с натуры, с живых людей, у которых мускулатура, кости скрыты под кожей, и члены которых с кожею совсем не те, что те же члены без кожи. А ученик, долго изучавший систему мускулов, скелет и т. п. непременно будет стараться применить, писав с живого человека, свои познания по части анатомии, и у него явятся люди с неестественными позами и формами тела. Далее, редко приходится [видеть] голое тело, а в одежде оно имеет совсем иные формы… Натура, и только писание с натуры, научает верно передавать жизнь. А все эти скелеты, манекены с мускулатурой – чепуха, и при том вредная, скоро забывающаяся!..» Айвазовский вполне одобряет мысль об уничтожении розни между академистами и передвижниками, очень доволен деятельностью графа Толстого и Бобринского. «Но старые профессора, вроде Лемоха, стоят поперек дороги! Они чувствуют, что утратят всякое значение, когда в Академию проникает струя свежего воздуха… А этот воздух для нее необходим… И не позор ли для нас, русских, что такой талант, как Репин, до сих пор не в числе профессоров Академии?!»
Айвазовский рассказывал далее о том, что он может писать с натуры только одни этюды, а для написания картины он должен быть отдален от натуры. (Я при этом заметил ему, что то же самое и в поэзии: я например, в восторге от Крыма, а ничего не мог бы написать о нем в данную минуту). Айвазовский упоминал в разговоре о том, как он провел воду из своего именья (за 25 верст) в Феодосию, и как терпит от этого ежегодно убытку в 5000 рублей, показывая мне и вид этого именья.
Затем опять перешли на искусство и наших общих знакомых художников. О Сверчкове он отозвался свысока, как о «лошадином художнике, не без таланта». Много расспрашивал меня о Репине, его жизни, его взглядах на искусство, сожалея, что в последний свой приезд в Феодосию Репин его не застал… Когда разговор коснулся литературы, то Айвазовский выказал равнодушное незнание ее, даже лучших современных образцов, и при многих фамилиях молодых литераторов, названных мною, отзывался, что в первый раз о них слышит… Но надо было видеть, как Айвазовский оживал, когда разговор опять касался моря, Крыма и его красоты! Показывая мне картины, он дополнял их на словах, стараясь изобразить все их поэтическое содержание, причем это выходило у него удачно… Но супруга Ивана Константиновича в его присутствии и вечером, молчала и как бы боялась при нем высказываться…
Хрущов весь вечер болтал без умолку и на разные темы. Знакомство его с сильными мира сего делает его разговоры интересными, тем более, что он у Айвазовского не стеснялся называть фамилии и высказывать свои, подчас, резкие мнения о поступках и словах разных «особ». После чая отправился я на пароход, куда вскоре приехал с Хрущовым и Айвазовский, «проводить дорогих гостей», как выразился он. Айвазовский благодарил меня за приезд к нему и за удовольствие, доставленное моей книгой (последнее едва ли искренно, так как он ее, наверное, не читал!). Звал меня к себе в Петербург. Одна черта, которую я в нем еще заметил, это – скупость. Я попросил у него на память о моем посещении его фотографическую карточку, что его почти рассердило. «Эти карточки – просто разорение, – сказал он, – их выходит у меня до 300 в год: это целый капитал!» Я заметил, что всякий мог бы купить карточку, но всякому приятно иметь ее у себя с надписью; иначе их никто и не просил бы у него… «Правда, если хотите иметь такую карточку, то пришлите мне, и я ее подпишу!» Я ответил, что если бы знал, что это его не обидит, то, конечно, и сделал бы так.
Хрущов мне рассказывал, что Айвазовский просил его напомнить, кому следует в Санкт-Петербурге о тех проектах, которые существуют относительно проведения железной дороги в Феодосию и т. д. Для этой цели он заметил Хрущову, что не мешало бы ему взять с собою вид Феодосийской бухты с той горы, на которой музей… Хрущов думал, что Айвазовский, прибегающий к его содействию, купит ему один экземпляр этого вида. Но не тут-то было!.. Айвазовский так и промолчал относительно снабжения фотографией Хрущова и, по мнению последнего, сделал это опять-таки из скупости! Хрущов об Айвазовском рассказывал много интересного (мы ехали с ним до Ялты в одном купе 1 класса парохода, где Айвазовский, благодаря содействию капитана парохода, нас прилично и удобно устроил). Он, Айвазовский, пользуется, по словам Хрущова, удивительным почетом всюду в Феодосии: перед ним расступаются, ему отвешивают почтительные поклоны… Айвазовский жаловался Хрущову на неимение вполне достаточных средств, которые обеспечивали бы ему его будущность. Говорил ему, что живет только картинами и очень много проживает на поездки, на помощь, оказываемую своей родине – Феодосии.
Хрущов, по его собственному признанию, хотел выпросить себе одну из картин Айвазовского, но не успел в этом. Он, восторгаясь одной из маленьких картин (Ялта с розовыми облаками, тянущимися к морю; действительно, прелесть!), просил Айвазовского продать ему ее и спросил цену. «Тысяча рублей, – спокойно ответил Айвазовский. Тогда Хрущов спросил, нет ли у него картины рублей на 300? – «Таких у меня теперь нет, но в Петербурге я Вам нарисую и на эту цену. Уступить Вам за 300 рублей картину в 1000 р. я не могу, так как другие будут в понятной претензии на меня. Если я и сделал кому-нибудь уступки в цене, или просто дарил картины, то за подарки: тогда никаких разговоров быть не может. Так сделал я с Дурново, когда он был еще товарищем министра!» Но Хрущов высказал ему все-таки изумление, что за картину менее чем в 1/2 аршин надо платить 1000 руб., и спросил, сколько времени у него занимает писание такой вещи? «Два часа, иногда и более», – был ответ. Теперь Хрущов задумал сделать Айвазовскому подарок, даже не ему прямо, а его жене, чтобы заручиться таким путем ходатайством этой женщины, которая, по его словам, имеет влияние на мужа. Когда я спросил Хрущова о времени начала его знакомства с Иваном Константиновичем, то он рассказал, какое участие принял он в деле о разводе Айвазовского с его первой женой. По словам его, Айвазовский ему много обязан тем, что дело о разводе уладилось благополучно. Армянская духовная консистория развела Айвазовского с его женой только на основании одного заявления Айвазовского, тогда как по закону для развода нужно согласие обеих сторон. Консистория поступила так в виду высокого положения Ивана Константиновича, как советника и как художника.
Когда он уже несколько лет прожил со своей второй женой Анной Никитичной, первая жена его захотела устроить скандал новой симпатии Айвазовского и подняла вопрос о незаконности развода. Во время празднования юбилея Айвазовского Великий Князь Владимир Александрович спросил его, что он желает просить, тот просил доложить Государю, что умоляет уладить вопрос о его разводе. Но Великий Князь хотя и обещал похлопотать, а дело не подвинулось. Тогда Айвазовский, зная, что Хрущов имеет большие связи в сенате и вообще с лицами, имеющими отношение к вопросу о разводах, обратился к нему за помощью и он, Хрущов, устроил так, что дело было доложено Государю! Государь приказал его прекратить (о чем и издал указ), обязав первую жену художника подпиской не возбуждать никогда этого дела, тем более, что Айвазовский обеспечил и ее, и прижитых с нею детей, и со времени их развода прошло более 10 лет, так что возбуждение дела имело очевидной целью скандал. Благодаря этой услуге, Айвазовский и дружит до сих пор с Хрущовым. По словам последнего, Айвазовский был сам не свой, когда неожиданно явился к нему на квартиру с просьбою о помощи. Он был бледен, дрожал, говорил со слезами на глазах и в голосе, и, между прочим, заявил, что новая его жена вполне осчастливила его, что, женившись на ней, он стал совершенно здоровый (?!), что она покоит его старость и т. п. Сам Айвазовский был настолько любезен, что все задерживал меня, когда я торопился из его квартиры в гостиницу за вещами, предлагал мне своих лошадей, чтобы довезти до парохода, напоминал о приглашении к себе. На пароходе в своем цилиндре с седыми кудрями и осанистым видом, он был похож на какого-нибудь английского милорда, путешествующего для своего удовольствия. Все перед ним почтительно расступались…
Проведя в Ялте два месяца, Жиркевич на обратном пути в Вильну заехал в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому, с которым вел переписку с 1887 года. Первая встреча с великим писателем потрясла Александра Владимировича, вытеснив все впечатления прошедшего лета и, вероятно, встречу с Айвазовским.
 И. К. АЙВАЗОВСКИЙ.
И. К. АЙВАЗОВСКИЙ.
Георгиевский монастырь в лунном свете. 1899
Холст, масло. 13 × 25. Частная коллекция
Оборот холста с дарственной надписью «В имении [далее – неразб.]
Феодосия 1899 июня 10-го. Александру Владимировичу Жиркевичу
от И. К. Айвазовского [неразб.] глубокого уважения и восторга от поэтического произведения»
Неизвестно, виделся ли Жиркевич с Айвазовским в Петербурге (дневники этого времени еще не расшифрованы), но в 1899 году в сборнике «Друзьям», Александр Владимирович посвятил одно стихотворение («У Георгиевского монастыря») Ивану Константиновичу и отослал ему эту книгу. Получив ее, художник откликнулся письмом с благодарностью:
Глубокоуважаемый Александр Владимирович.
Любезное письмо Ваше и новую книжечку я имел удовольствие получить, и вчера я с величайшим удовольствием прочел.
Так много поэзии, с такою легкостью, что, читая, в голове составляется картина, такое же впечатление я чувствую, когда читаю Пушкина.
Признаюсь, когда замечаю, что ради рифмы и с трудом пишут, как Бенедиктов и даже иногда и Лермонтов – [отстают] от той природы, которую [видишь]. Ну, об этом я не могу высказать, как бы хотелось.
Вчера, прочитав стихи, которые Вам угодно было мне посвятить, я тут же написал маленькую картину Георгиевский монастырь в лунную ночь.
Я прошу Вас о получении уведомить меня.
Позвольте мне еще раз искренно благодарить Вас за доброе внимание.
С [истиннейшим] глубоким уважением.
И. Айвазовский.
Спустя полгода Александр Владимирович отправил в подарок художнику свою новую книгу – сборник рассказов разных лет – и получил ответное письмо:
Глубокоуважаемый Александр Владимирович.
При любезном письме Вашем, имел удовольствие получить книгу Рассказы. Прошу принять мою сердечную благодарность.
Согласно Вашему желанию посылаю при сем свою карточку.
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом. Пожеланием – всего хорошего.
С искренним уважением к Вам
И. Айвазовский
Это последнее, что известно нам о пересечении жизненных путей А. В. Жиркевича и И. К. Айвазовского.