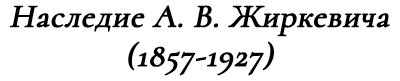Из вступительной статьи к книге «А. В. Жиркевич. Встречи с Толстым. Дневники. Письма»
<…> Впервые имя Толстого встречается в дневнике Жиркевича несколькими годами ранее записей о личных встречах. 20 февраля 1887 г. он восторженно пишет о драме «Власть тьмы», с которой Александр Владимирович тогда познакомился. И с этого момента толстовская тема в его дневнике будет звучать на протяжении всей его жизни. Жиркевича волнует все, что он слышит о Льве Николаевиче, что читает в газетах, все то, что рассказывают ему о Толстом А. М. Жемчужников, И. Е. Репин, Я. П. Полонский, В. Л. Величко.
В том же 1887 году Л. Н. Толстой опубликовал «Листки» с призывом вступать в общество «Согласие против пьянства». А. В. Жиркевич, тогда студент Александровской военно-юридической академии в Петербурге и начинающий поэт, откликнулся на этот призыв письмом (от 23 декабря 1887 г.), в котором, выражая согласие с основной идеей, высказал ряд замечаний и своих предложений. Это была болезненная для него тема, так как отец его страдал алкоголизмом (что повело в дальнейшем к распаду семьи). Толстой ответил обширным письмом (от 28 декабря 1887 г.), разъясняя свою позицию. В следующем письме Жиркевич, продолжая отстаивать свой взгляд, писал: «Вопрос, предложенный мною Вам в первом письме, Вы разрешили не вполне для меня ясно. Я спрашивал Вас о том, что осуществима ли у нас, в России, при систематическом спаивании народа казной, при его экономическом застое, наконец, при апатии нашего общества ко всему, что требует дела, жертв и труда, — осуществима ли попытка учредить “согласие” на одной нравственной идее?! Примеры Америки, Швеции, Норвегии — для нас поучительны, но не надо ли нам, работая для русского народа, принять в расчет уровень его развития, его экономический быт, разрешить вопрос, есть ли у нас общество в том смысле, как оно существует на Западе, и если есть, то доросло ли оно до самоубедительности во имя какой-либо, хотя и очевидно отвлеченной идеи?» (из письма от 1 января 1888 г). Известно, что идея основать общество «Согласие против пьянства» своего продолжения по разным причинам не получила.
В мае 1890 г. Жиркевич послал Толстому только что изданную им под псевдонимом А. Нивин поэму «Картинки детства» (СПб., 1890) и письмо, в котором спрашивал мнение Толстого о своей книге. В ответном письме (от 30 июня 1890 г.) Толстой советовал ему оставить «литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворная» (известно, что в эту пору Толстой скептически относился к поэзии). Трогательными и благодарными словами откликнулся Жиркевич на суровую отповедь Толстого:
«Спешу успокоить Вас насчет впечатления, которое произвело Ваше искреннее, честное письмо на мое авторское самолюбие… Отчего Вы думаете, что я мог даже озлобиться на Вас за правду, обидеться за нее?! Нет! Если в первую минуту мне стало горько, то только потому, что я ожидал, что книга моя доставит Вам удовольствие, но после, перечитывая Ваши откровенные строки, и эта горечь исчезла, уступив место благодарности за правду» (из письма от 14 июля 1890 г.).
«Очень рад был получить ваше письмо, Александр Владимирович, — отвечал Лев Николаевич начинающему поэту, видимо испытывая некоторую неловкость за резкие слова, — и очень благодарен за ту доброту, с которой вы приняли мое резкое суждение. Страстное влечение ваше к литературе говорит в пользу того, что я ошибся, что очень вероятно и чего очень желаю. Повторяю только то, что пишите только в том случае, если потребность высказаться будет неотступно преследовать вас» (из письма от 28 июля 1890 г.).
В октябре 1890 г. Жиркевич, находясь на лечении в Ялте, просит разрешения на обратном пути заехать в Ясную Поляну. Толстой не приглашал, но и не отказывал: «…поступайте, как вам Бог на сердце положит. Я в деревне» (из письма от 2 ноября 1890 г.).
Не получив прямого отказа, Жиркевич все же решается на обратном пути заехать в Ясную Поляну. Было это 19 декабря 1890 г. Встреча с Толстым потрясла Александра Владимировича. Дневниковые записи сохранили удивительно свежее, искреннее, взволнованное состояние молодого офицера… Почерк Жиркевича, обычно стремительный и почти без помарок, меняет свое уверенное движение, как только в тексте появляется имя Льва Николаевича, особенно в описаниях первых двух посещений Ясной Поляны. Эти страницы можно легко узнать по бесконечным зачеркиваниям, вписыванию другими чернилами нового текста, вклеенным вставкам… Эта хаотичность записей передает смятение молодого человека, который, почитая Льва Николаевича за великого писателя и человековеда, ехал рассказать о своих насущных проблемах, спросить совета, поделиться религиозными сомнениями… А сомнения были. Давно он уже не посещал церковь, что приносило огромное страдание его жене. В письме-исповеди «Потревоженные тени», адресованном старшей дочери Марии, Жиркевич вспоминал:
«Еще до женитьбы я стал охладевать к обрядам православной, казенно-бюрократической, далекой от Евангелия церкви, и если соблюдал их, то как состоящий на военной службе, во исполнение общих, начальственных распоряжений (причащался, исповедовался, в табельные дни ходил в собор и т. д.). Женившись, я, не желая огорчать Мамочку, [1] раза два заставил себя отговеть. На днях, перебирая мои старые дневники эпохи моей молодости, я натолкнулся на запись, в которой говорится о том, как я огорчил Мамочку отказом идти на исповедь. Видя, что никакие резоны и просьбы ее не действуют на меня, она перестала настаивать, заплакала и отошла от меня со словами: “Я наполовину тебя потеряла”. [2] Сам отколовшись от обрядностей православной церкви, я, конечно, не мешал Мамочке действовать в смысле привлечения вас, детей, к этим обрядам. Тем не менее, вы, дети, подрастая, начинали чувствовать разлад между родителями на этой почве, задавая мне, при Мамочке, вопросы: “Почему ты не постишься?” — “Отчего ты не исповедался, не причащался в этом посту?” и т. д. Приходилось дипломатничать, вывертываться, уклоняться от прямых ответов… И вы догадывались, что я говорю неискренно…»
Но само Евангелие было всегда настольной книгой Жиркевича. На страницах своего дневника он часто обращается к этой Великой Книге и жизнь свою старается строить по ее заповедям… Часто обращается он и к самому Христу, которого почитает самым большим другом, но не грозным судьей. Ему он исповедуется па страницах своего дневника…
Сохранилось небольшое дорожное Евангелие Александра Владимировича, на внутренней стороне обложки которого имеется запись: «Это Евангелие было приобретено мною в бытность мою в Военно- Юридической Академии, и с тех пор во всю мою жизнь я с ним не разлучался. А. Жиркевич». Я думаю, эта запись была сделана в 1924 году, тогда же, когда было написано стихотворение, вложенное в футляр Евангелия:
МОЕМУ ЕВАНГЕЛИЮ
Спутник веры неизменный,
Врач души моей больной,
Бескорыстный друг, бесценный,
Связь меж Небом и Землей,
Утешающий в печалях,
Облегчавший крест труда,
И Христа, в духовных далях,
Путеводная звезда,
Книга жизни, правды, света,
Побеждающая мрак,
Тем собранье для поэта,
Для философа — маяк.
А. Жиркевич
г. Симбирск. 23 янв. 1924 г.
С вопросами, касающимися религии, веры, он и ехал к Толстому, но Лев Николаевич в своих исканиях уже давно ушел на другой уровень философской высоты…
Жиркевич увидел личность такого невиданного масштаба, поразившую его своим неортодоксальным мышлением, отрицанием всяческих авторитетов, на которые Александр Владимирович хотел опереться в беседе, и вместе с тем такого личного обаяния, что разговор пошел не по задуманному Жиркевичем плану, а в том направлении, куда его направил Толстой. Сам текст записей идет не в хронологическом порядке, а так, как подсказывает память. Жиркевич торопится записать, прежде всего то, что считает особенно важным. При первой встрече это диалоги, в которых Толстой развивает свои мысли об искусстве и литературе, суде и военно-судебном ведомстве, в котором служил Жиркевич. Эти записи Жиркевич делал во время дневной прогулки с Толстым. Держа в кармане карандаш, он делает пометки на листочках, а вернувшись в отведенную ему комнату, переносит их в тетрадь. Обладая феноменальной памятью, многое запоминает. Возвращаясь из Ясной Поляны, продолжает записи в поезде, в гостинице, вспоминает всплывающие подробности, вернувшись домой, в Вильну. Если в первых письмах к Толстому Александр Владимирович, проявляя почтение к знаменитому автору, позволяет себе иметь свое собственное мнение и смело не соглашаться и возражать Толстому, то после первой встречи это уже потрясенный до глубины души человек. Он влюблен в Толстого, он хочет исповедоваться ему, старается понять его учение и согласовать со своей жизнью. Он забрасывает Льва Николаевича в письмах вопросами, на которые Толстой отвечает не часто, а уяснив, что Жиркевич не станет его последователем, — все более кратко. Может быть, читать письма эти не всегда легко, почти все они начинаются с извинений за вторжение в жизнь Толстого, просьбой о прощении, что не может не писать ему. В одном из них Жиркевич даже просит Льва Николаевича разъяснить, в чем же причина такой его привязанности к Толстому. «…В Вас есть что-то притягивающее человека, и тот, кто хоть раз имел счастье Вас видеть, уже навсегда будет стремиться к Вам, чтобы освежить и ум, и душу в беседе с Вами. Простите же человеку за любовь к Вам как человеку, перед которой гаснет любовь к писателю!»
Кстати, многие испытывали при встрече с Толстым подобные чувства. Их поражала громадность личности, сила интеллекта Толстого, удивительная искренность и правдивость, перед лицом «которой нельзя и подумать, чтобы соврать ему» (как замечал Жиркевич). В письмах Бунина, Лескова проскальзывают похожие интонации. Репин признается Жиркевичу, что в присутствии Толстого не может писать больших работ, а лишь эскизы, рисунки…
Посетив Ясную Поляну во второй раз, проведя в ней четыре дня, с 12 по 16 сентября 1892 г., Жиркевич имел возможность лучше познакомиться с семейным укладом, вникнуть в бытовые подробности усадебной жизни. Кроме, вероятно, точных, почти стенографических записей бесед с Толстым, есть в тексте и прекрасные описания прогулок со Львом Николаевичем, с Марьей Львовной, вечерних танцев юродивого Блохина с дворовыми девушками, бытовые, окрашенные юмором сцены жизни яснополянских крестьян, психологически точные портретные зарисовки как самого Льва Николаевича, так и других обитателей Ясной Поляны.
Но главное, Жиркевич хотел еще раз прикоснуться к новому духовному осознанию жизни, которое сложилось у Льва Николаевича к началу 1880-х годов, к новому, непривычному прочтению Евангелия и попробовать приложить это новое к своей жизни.
Через всю жизнь Александра Владимировича прошли три встречи с этим человеком, во многом опередившим время, чьи духовные заветы, которыми Толстой предлагал руководствоваться каждому человеку, — все еще ждут своего часа. А заветы эти сводились к тому, чтобы каждый человек понял, зачем Господь послал его на землю, чтобы приложил человек все усилия для исполнения этой Божьей воли, чтобы осознал он, что ничего нет выше заповедей блаженств, данных Христом в Его Нагорной проповеди, и всю жизнь положил, чтобы приблизиться к этим Заветам…
Мне кажется удивительным, как мой дед, впервые оказавшись в Ясной Поляне совсем молодым человеком, сумел увидеть сложность яснополянской жизни («зачем, зачем я ездил знакомиться…» — восклицает он на одной из страниц дневника), во многом уже созревшее несогласие и противостояние Льва Николаевича и Софьи Андреевны и, несмотря ни на что, взаимную любовь этих двух сильных личностей; как сумел он, не осуждая, принять обоих. В отличие от многих гостей Ясной Поляны, он не становится на сторону ни одного из супругов. Толстого он просто любит и продолжает любить даже тогда, когда смог сбросить бремя некоторых толстовских взглядов. Выслушав совет Льва Николаевича бросить это «разбойничье ведомство» (выражение Толстого), он не оставляет службу, а продолжает служить, стараясь приносить пользу, оказывая милосердную помощь осужденным, в том числе и религиозно инакомыслящим (через многие письма проходит его трогательная забота о молодом сектанте С. Егорове). А в Софье Андреевне он видит женщину, равную по силе личности Льву Николаевичу: «… личность графини Толстой как жены этого человека, 40 лет страдающей возле него, из-за него, ему все же до конца преданной, мне еще более симпатична…»
В заключительном разделе книги представлены письма друзей и знакомых Жиркевича о Толстом. В этих письмах, как в малой капле, отразился океан страстей, которые кипели в обществе по поводу Льва Николаевича. Мы даже не можем представить, что значило имя Толстого для его современников.
«Для трех поколений советских людей и не существовало великого мудреца, духовидца и пророка Толстого, а был лишь “великий писатель земли русской”, который по совместительству числился еще “помещиком, юродствующим во Христе, непротивленцем злу насилием”» (Сушков Б. Ф. Когда мы реабилитируем Льва Толстого? // Евангелие Толстого. М., 1992. С. 3).
Невозможно и в этой статье в полной мере осветить все возникающие вопросы, но, может быть, примечания к этой книге, да и сам живой, искренний тон записей Александра Владимировича вызовут у внимательного читателя желание взять работы Льва Николаевича второй половины его творческой жизни и попытаться самому разобраться в так называемом учении Толстого (кстати, 2 декабря 1897 г. Толстой записал в дневнике: «никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелиях»), познакомиться с дневниками Толстого и Софьи Андреевны, пропустить через себя и драму Толстого, и страдания Софьи Андреевны, попытаться понять правду обоих, не осуждая, а сочувствуя и сожалея… Ведь недаром же сотни, а может быть и тысячи людей шли в Ясную Поляну спрашивать, учиться, советоваться с яснополянским мудрецом, время которого, наверное, еще впереди…
Последний раз Александр Владимирович был в гостях у Толстого 6 и 7 ноября 1903 г.
«Сам Лев Николаевич, — писал в дневнике Жиркевич, — погружен теперь в статью о Шекспире, в личную переписку, в дела добра, в борьбу с неправдою. Его глаза сверкают, как у молодого, движения его быстры. Только от худобы он немного более сгорбился и уши его огромные, типичные, с волосами, точно мхом густо поросшие, еще более торчат по сторонам удивительно красивого, правильно развитого черепа. Глубоко сидящие в орбитах проницательные, серые глазки, торчащие уши, оттопыренные усы, густые нависшие брови, грубые черты лица, подвижный на конце крупный нос, движущийся во время жадной еды, скулы — все это по прежнему придает лицу Толстого подчас зверски-дикое, злое выражение, особенно когда он ест или над чем-либо молчаливо сосредоточен. И вдруг улыбка: лицо озарилось внутренним светом, стало удивительно добрым, сияющим… Но заговорили о грустном – снова Толстой стал вспоминать о случае, когда он защищал бесплодно нижнего чина, расстрелянного во времена военного министра графа Милютина, и вдруг слезы наполнили его глаза, все лицо как-то сразу болезненно осунулось, нервно подергивается… Удивительное лицо! Особенно когда он внимательно слушает вас и словно ныряет в вашу душу, ощупывая ее своими пронизывающими, медвежьими глазками».
В это свое последнее посещение Ясной Поляны Александр Владимирович отмечает одиночество двух стареющих людей. Дети разъехались, необыкновенный мальчик Ваничка, последний сын Софьи Андреевны и Льва Николаевича («дитя старости», как трогательно называла его мать), скончался в 1895 году.
Жиркевич, как и многие другие, снова отмечает редкую искренность и правдивость Толстого: «От него, конечно, можно скрыть свои мысли, но соврать ему вслух нельзя. Он тебе ничего, быть может, и не скажет, но так вонзится в тебя медвежьими, точно из норок из-под мохнатых бровей глядящими глазками, так двинет нервно плечом, так молчаливо, как бы с презрением отойдет в сторону или отвернется, что тебе ясно станет, что ты пойман великим ловцом душ человеческих на фальши и неискренности. Начинаешь оправдываться… А это еще хуже».
Описание третьей поездки в 1903 году заканчивается следующим выводом:
«Ясная Поляна — центр современной духовной, умственной жизни, своего рода русский Рим, куда едут исповедоваться, каяться. Сидя в ней, чувствуешь, как мелки и преходящи твои повседневные дрязги. Зато личность человеческая, любовь к людям, желание служить им выступают в тебе яснее, повелительнее… В моих воспоминаниях мне рисовались гораздо грандиознее и парк, и яснополянский дом, где живет великий человек, и березовая аллея, идущая от ворот к дому. Теперь все это показалось мне довольно миниатюрным, пожалуй даже заурядным. Зато сам Толстой кажется еще выше, интереснее, колоссальнее, когда я в нем вижу общечеловеческие слабости, с которыми он борется, которых ранее в нем не замечал (или замечал вскользь), ослепленный его гениальностью. Драма всей жизни этого человека, состоящая в борьбе сильных страстей с убеждениями, в вечном столкновении противоречий! — для меня теперь ясна, а потому ужасна…»
Жиркевич не станет последователем Толстого, но личность Льва Николаевича будет тревожить, волновать его в течение всей жизни. Находясь под огромным впечатлением от духовной силы и значимости личности Толстого, он торопится занести в дневник все, что видел, слышал в Ясной Поляне. Перечитав записанное, отмечает в дневнике: «Прочел я то, что уже сюда занесено… Все это лишь материал, и довольно богатый, а не готовое, систематическое изложение. Но как материал все это мне дорого. Быть может, со временем я приведу в порядок все отрывки воспоминаний о посещении Ясной Поляны…»
Но война, революция, семейные беды не позволили Александру Владимировичу опубликовать свои воспоминания.
Готовя эти материалы к изданию, я постаралась ничего не менять в этом кажущемся хаотичным повествовании, потому что оно хранит живое восприятие личности Толстого, которое, надеюсь, передастся и читателям. И Лев Николаевич предстанет перед нами не хрестоматийным старцем, а живым, страдающим, ищущим человеком, — нашим современником. Он и сейчас продолжает ставить перед каждым из нас самые важные вопросы о жизни, нравственности, обществе — напоминая о главных ориентирах, которых так не хватает нашему времени.
* * *
Заканчивая вступительное слово, хотелось бы еще раз вспомнить вместе с читателем некоторые штрихи жизни Толстого, особенно второй ее половины, еще раз осознать те события, с которых началось его духовное перерождение. Ведь это редчайший случай, когда человек, имея все, о чем мечтают миллионы, — талант, благополучие, всемирное признание, — отказался бы от всего и, не уходя в монастырь, посвятил свою жизнь служению Богу, как он это служение понял. Вспомним также о его великом страдании от невозможности изменить жизнь по своему новому разумению (ведь к этому времени Толстой был уже обременен большой семьей!). И начнем вот с чего…
Летом 1869 г. Лев Николаевич, знаменитый писатель, автор «Войны и мира», рачительный хозяин процветающего имения и счастливый семьянин, ехал в Пензенскую губернию прикупить имение с большими лесами. На ночь он остановился в арзамасской гостинице. Ничто не предвещало чего-либо необычного… В два часа ночи он проснулся, и смертельный ужас объял его от совершенно ясно представившейся ему реальности — конечности своего существования, своей смертности, пусть еще не сейчас, не скоро, но неизбежной… Это была знаменитая ночь «арзамасского ужаса». После этого все чаще его стала посещать тоска. Постепенно сам Толстой стал замечать, что покупка новых земель, охота меньше стали приносить ему удовольствия. Лев Николаевич вспоминал потом, что хотел было покончить с собой. Вот тогда-то он и взял в руки, впервые осознанно, — Евангелие. Толстой начинает посещать церковь, исполнять все обряды, держать посты, но так продолжалось всего года два. Толстой, с его пытливым и проницательным умом, увидел много несоответствий с высоким духом Евангелия. Спустя много лет он напишет в статье «Николай Палкин»: «…мы дошли до того, что слова: “Богу Божие” — для нас означают то, что Богу отдавать копеечные свечи, молебны, слова — вообще все, что никому, тем более Богу, не нужно, а все остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, отдавать кесарю!»
Разочаровавшись, он начинает свой путь к Богу, и главное в нем — этическая сторона христианства, которая почти истаяла в настоящее время. Он просит, умоляет, требует, кричит, призывает всех стоять перед Богом «как свечка» во всех делах и помыслах. «Ищите Царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам, — призывает вслед за Христом Толстой. — Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, и разгорании этого света — единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека».
Сама жизнь подвергла сомнению некоторые установки Льва Николаевича. Православие по сей день живо благодатью церковной службы, которой не признавал Толстой. И Жиркевич, находя много близкого в исканиях Толстого, все же во многом с ним не согласен: «Нет! Толстой не прав!.. От истории отворачиваться нельзя, что я ему говорил уже и лично, и писал… Жизнь народа не создать на отвлеченно-философских началах, она создается сама, и все той же историей. В своей “вере” он валит все с ног. А между тем монархизм в России выработался веками, русские массы народа с детства впитывают с молоком матерей любовь к царю и родине, так что толстовский космополитизм им не по плечу. Я согласен с ним в том, что попы исказили Христову религию. Эта мысль жила в моей голове еще ранее личного свидания с Толстым!»
В другом месте Жиркевич пишет: «Уже одно то, что поход Толстого против современной церкви будил мысль и возбуждал интерес сонного общества к вопросам религии, — его великая заслуга и перед Россией, и перед человечеством…» Об этом написано много книг, исследований, много сказано за и против толстовских взглядов. Но только глубоко религиозный человек, каким был Толстой, мог так точно выразить связь человека с Богом: «Бога знаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по чувствуемой полной зависимости от Него, вроде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его держит, кто греет, кто кормит; но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает, — любит его».
Природа наградила Льва Николаевича недюжинным здоровьем, выдающимся умом, мощной гормональной системой и редко встречающейся совестливостью. Когда началась пора юношеского возмужания, мучительной борьбы с самим собой, со своими страстями (Толстой откровенно пишет о своих метаниях в дневнике), каждое падение приносило ему чувство стыда, желание исправить себя, начать жить новой, чистой, целомудренной жизнью. Он обо всем откровенно исповедуется в дневнике. И это умение заглянуть в себя, которое развилось у него с юных лет, в дальнейшем перешло в высочайший психологизм. Стоит только почитать письма Льва Николаевича к своим детям. Укоряя их в проступках, он прежде всего делится с ними глубинными проблемами своей внутренней жизни. Немногие, думаю, могут так заглянуть в себя, даже на исповеди.
Недолгое пребывание в Казанском университете (с сентября 1844 по апрель 1847) заканчивается возвращением в Ясную, где он надеется серьезно заняться усадебным хозяйством. Затем он совсем было решил вступить в гражданскую службу и даже начал сдавать экзамены в Петербургском университете на звание кандидата. Но светская жизнь на какое-то время пленила молодого Толстого. Он увлекается игрой и бильярд. А тут еще присоединилась страсть к карточной игре, не на шутку захватившая его. Проигрывались огромные суммы денег, а долг чести требовал немедленной уплаты. На выручку приходили братья. Это была на редкость дружная семья — рано осиротевшие четыре брата и сестра. Сколько раз Левушка брал себя в руки, стремясь избавиться от пагубной зависимости! А братья всегда выручали его, мягко увещевая остепениться (хотя временами и сами срывались). Но это только канва внешних событий, за всем этим шла мощная работа духа, о чем говорят его дневники той поры и переписка с братьями и сестрой.
В 1851 г. он уезжает со старшим братом Николенькой на Кавказ, в Чечню, в станицу Старогладковскую. (Теперь там музей Л. Н. Толстого. Удивительно, что, как рассказывают очевидцы, во время недавних боев в Чечне война выжгла всю землю вокруг музея, но сам он остался невредим — его бережно хранят и русские, и чеченцы, которые благодарны Толстому за «Хаджи-Мурата», за его тонкое проникновение в душу гордого и смелого горского народа.)
Здесь, в Старогладковской, он пишет первую свою повесть «Детство» и посылает ее Н. А. Некрасову, редактору «Современника». И с этого момента рождается писатель.
Во время Крымской кампании 1853—1856 гг. Толстой почти 11 месяцев принимал участие в боевых действиях. Тогда же, 4 марта 1855 года, находясь на позиции на реке Бельбек, он записал в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
Больше всего в этой записи поражает та сила, которая таилась в Толстом до времени. Ни одному обыкновенному смертному не могла прийти в голову такая мысль. А Толстому пришла…
Когда в 1856 г. Толстой приезжает в Петербург, он знакомится со всеми знаменитыми писателями, группировавшимися вокруг «Современника». Это Тургенев, Григорович, Некрасов, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Его принимают с распростертыми объятиями, но, отдавая дань незаурядному таланту, относятся все же несколько свысока. Пройдет несколько лет, и Толстой перерастет их и образованностью, и глубиной проникновения в жизнь. Он будет изучать множество языков (на французском, по его собственному утверждению, он даже мог думать). [3] В трактате «Что такое искусство?» будет разбирать труды философов разных стран и эпох, и многие из них он прочтет в подлинниках. Еще в молодые годы он успевает вдуматься в проблемы обучения крестьянских детей, создать свою систему обучения и написать «Азбуку», организовать школу (спустя много лет ученики этой школы вспоминали, что не расставались с Львом Николаевичем до ночи, так было интересно). Во время реформ 1860-х гг. он принимает участие в наделении крестьян землей, выступает как мировой посредник и несколько раз защитником в суде.
В 1862 г. он женится на Софье Андреевне Берс. Лев Николаевич получил любящую и преданную жену, заботливую мать, хозяйку и помощницу, переписчицу его произведений и издательницу. «Юная жена молодого писателя, — отмечает В. А. Жданов в статье “Рукописи Л. Н. Толстого”, — с первых дней приучилась беречь все, что побывало на письменном столе мужа. Если вначале любящее сердце подсказало ей, как надо поступать, то впоследствии Софья Андреевна собирала рукописи, сознавая их ценность. Подумать только, какая плачевная судьба могла бы постигнуть в уединенной усадьбе отброшенные автором ненужные листки, если бы не заботы рачительной хозяйки!» Сама Софья Андреевна обладала многими талантами: писала стихи и прозу, прекрасно рисовала, музицировала, великолепно шила. Кто-то насчитал девятнадцать талантов у жены Толстого.
Но вернемся к ночи «арзамасского ужаса». Пережив потрясение, Толстой постепенно все более и более отходит от привычного образа жизни. Взяв в руки Евангелие, он как за соломинку хватается за него и уже не по-школьному изучает его и обретает в нем спасение. Его сподвижник П. И. Бирюков, первый его биограф, считал, что литературная деятельность Толстого делится на две равные по значимости половины. В одной — создание высокохудожественных, всем известных произведений, в другой — не менее значимых произведений на духовные темы («Исповедь», «В чем моя вера?», «О жизни», «Царство Божие внутри вас»). С редкой искренностью, доверительностью и огромной силой убедительности Лев Николаевич делится с читателем, как с близким другом и единомышленником, своим прочтением Евангелия, своими открытиями и сомнениями. И многие находят для себя близкими те же мысли и те же сомнения, что мучают и Льва Николаевича, многие видят высоту той нравственной планки, которую Толстой обозначил в своих кит ах. Именно с начала 80-х годов в Ясную Поляну хлынул поток посетителей. В Государственном музее Л. Н. Толстого хранится более 50 тысяч писем к нему на 27 языках мира и около 11 тысяч его ответов на эти письма (и это, вероятно, лишь часть эпистолярного наследия Толстого). Почему же именно к Толстому поехали и пошли толпы паломников (ведь евангельские заветы существуют две тысячи лет)? Может быть, потому, что Лев Николаевич так доверительно и искренне делился в своих книгах с читателем своими исканиями, сомнениями и открытиями, да так, будто каждый читатель его друг и единомышленник и каждое слово обращено лично к нему, его читателю, — и пошли к Толстому сотни людей из разных краев земли. Писали, исповедовались, спрашивали — как же жить, чтобы согласовать свою жизнь с совестью?
Тогда же, в 80-х годах, он отказывается от собственности, выдав доверенность на ведение всех хозяйственных дел Софье Андреевне, а в 90-е годы оформляет официально раздел всего имущества между детьми и женой (к этому времени в семье восемь человек детей; еще пятеро умерли в младенчестве). И, оставаясь жить в Ясной Поляне, он больше не владеет никаким имуществом. Затем приходит стыд, что его литературные труды превратились в источник дохода и этим портятся дети, и он решает отказаться от прав на свои литературные произведения, написанные после 1880 г., разрешая печатать их любым издателям не спрашивая его согласия.
С начала 80-х годов начинается противостояние между Софьей Андреевной и Львом Николаевичем. И до сих пор не утихают споры по этому поводу. Кто-то становится на сторону Толстого, кто-то на сторону его жены. Но у каждого из них была своя правда. Житейская — у матери семейства, а Толстой видел дальше и выше, и, если бы семья отпустила его в 1875 году, как он того хотел, может быть, не дошли бы до таких размеров страсти, раздиравшие в последующие годы семью. Ведь с незапамятных библейских времен все пророки жили в уединении, вдали от людей. Трагедия же Толстого заключалась и в том, что он не мог согласовать свою жизнь с тем, чему учил. Он физически ощущал «роскошь» Ясной Поляны (которой, впрочем, и не было). Ему стыдно было перед крестьянами, и он косил сено для вдовы, а затем с друзьями крыл крышу у крестьянки Анисьи Копыловой.
А работа Толстого на голоде?! Тогда, в 1891-1893 годах, в центральных областях России от голода гибли целыми семьями, правительство принимало меры, но они были недостаточны. Как мало освещался в пашей литературе этот подвиг уже немолодого человека! Бесчисленные часы (осенью и зимой) в открытой коляске, бессчетные дни, проведенные в голодающих деревнях, где он вникает во все подробности бытовых проблем крестьянских семей, и одновременно- работа над статьями о разразившемся голоде, столь жесткими, что они запрещаются цензурой и лишь в смягченном виде выходят в журналах.
О голоде Толстой узнал от старинного своего приятеля И. И. Раевского, первого принявшего личные меры по спасению людей. Он пригласил Толстого приехать к нему в Бегичевку, посмотреть, чем можно помочь людям в беде. А Льву Николаевичу, в это время увлеченному евангельской идеей «возлюби ближнего, как самого себя», казалось, что без всяких учреждений богатый поможет бедному (иначе и быть не может!) и так все само собой образуется. И только после настойчивого приглашения Раевского Лев Николаевич приехал в Бегичевку, проехал по соседним деревням, схватился за голову, поняв необходимость реальной помощи. И здесь начинается более чем двухлетняя титаническая работа по устройству столовых, медицинской помощи, образовательной программы (кстати, именно Толстой сообразил, что во время голода самая выгодная каша — пшенная, так как при варке крупа увеличивается в объеме в четыре раза). Когда Софья Андреевна опубликовала в «Русских ведомостях» призыв жертвовать на голодающих, на имя семьи Толстого из России и со всего мира хлынул поток денег. Толстому доверяли больше, чем разным государственным и общественным организациям. (Внимательный читатель найдет некоторые подробности этой поры в примечаниях к книге.)
Все решительнее Толстой признает право на существование лишь за той литературой, которая призывает людей к нравственной жизни. Меняется и его отношение к собственным прошлым произведениям. Несколько раз он говорит, что с удовольствием сжег бы «Анну Каренину». Меняется его отношение и к писателям. Читателя могут ошеломить записи Жиркевича о первой его поездке в Ясную Поляну, о диалогах, связанных с литературой и искусством, в которых Толстой дает жесткую оценку творчеству Достоевского, Тургенева, Фета, Мопассана и других авторов, составляющих гордость всемирной литературы. Но здесь не все так просто. Вот что пишет на этот счет литературовед А. И. Шифман во вступительном слове к воспоминаниям секретаря Толстого Н. Н. Гусева «Два года с Л. Н. Толстым»:
«Сам Толстой предупреждал, что не всякое случайное, мимоходом сказанное им слово полностью отражает его истинное мнение или убеждение. “Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, — читаем мы в дневнике Толстого от 25 августа 1909 года, — не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать… Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом” (ПСС. Т. 57. С. 124).
И действительно, сказанное Толстым иногда относилось не ко всему творчеству писателя, а какому-нибудь отдельному его произведению, к отдельной черте характера или к единичному эпизоду его жизни. <…> О Тургеневе Гусев записал услышанное от Толстого: “Самый пустой писатель… Содержания у него никакого не было…”, и эти слова тоже скорее случайная реплика. Письма Толстого и воспоминания многих современников свидетельствуют о том, как высоко Толстой ценил автора “Записок охотника”, как много он почерпнул от него. “Тургенева я всегда любил”, — записал с его слов Д. П. Маковицкий. <…> После идейного перелома 1880-х годов Толстой часто упрекал своих современников в “безверии”, в “ложном миросозерцании”, в “отсутствии содержания”, то есть в отсутствии в их творчестве того религиозно-нравственного миропонимания, без которого, по его мнению, невозможно подлинное высокое искусство». Можно добавить: Толстой ругает Мопассана, а сам восхищается его «Жизнью», ругает Золя, а вместе с тем находит, что никто не сумел показать так французского крестьянина, как Золя.
Многие люди, открывающие новые пути в осмыслении жизненных и духовных задач или начинающие новое дело, бывают подчас категоричны. Не избежал этого и Лев Николаевич. Но чем дальше шло время, тем становился он все более терпимым, в том числе и к разным степеням религиозности других людей, понимая, что у каждого своя планка. Когда его сестра Мария Николаевна ушла в монастырь (где в то время обитало семьсот насельниц), Толстой посмеивался, называя ее «одной из семисот дур» (слова эти вышиты Марией Николаевной на подушечке, которую посетитель яснополянского дома Толстого всегда может увидеть в его спальне). А 10 апреля 1907 года он писал сестре: «Поклонись от меня всем твоим монашкам. Помогай им Бог спасаться. В миру теперь такая ужасная, недобрая, глупая жизнь, что они благой путь избрали, и ты с ними. <…> Твой брат и по крови и по духу — не отвергай меня — Лев Толстой».
В одном из писем поэт Константин Михайлович Фофанов спрашивал Жиркевича: «…читали ли Вы Льва Толстого новую повесть “Крейцерова соната”? Сколько гениального, почти божеского проникновения в области человеческого духа. Нам надо гордиться и радоваться, что мы современники Л. Толстого; это все равно, что быть современником Ильи Муромца, обладающего только не физической силой, а нечто большим». Но Александр Владимирович Жиркевич увидел другую сторону жизни этого уникального, могучего человека: «… Писать о Толстом, — отмечает он в дневнике, — значит изобразить душевную трагедию (вроде гоголевской), сожалея, плача и отнюдь не бросая камнем в такого страдальца, каким был Толстой…»
Заканчивая эту работу, я с грустью понимаю, что кто-либо из следующих героев архива А. В. Жиркевича (а это Репин, Нестеров, Верещагин, братья Жемчужниковы и другие), сколь бы замечателен он ни был, вряд ли подарит мне возможность прикоснуться к такой духовной высоте, какую я постоянно ощущала, работая над этой книгой — книгой о Льве Николаевиче Толстом.<…>