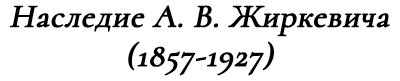Предисловие к книге «А. В. Жиркевич. Встречи с Толстым. Дневники. Письма»

Валентин Курбатов
Советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик. Член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей России, член Общественной палаты России (2010—2014), член Президентского Совета по культуре. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2020).
Один за всех и все на одного…
Это я о Толстом. Господи, сколько о нем написано одних воспоминаний! Как ни о ком. Кажется, сколько видевших, столько и писавших. Целое человечество, если вспомнить ворчание Софьи Андреевны из вот этих воспоминаний Александра Владимировича Жиркевича, что только за одно лето 1890 года, когда он в первый раз гостил в Ясной Поляне, там живало 260 человек, все больше, по усталому отзыву Софьи Андреевны, толстовцы – «дрянь тунеядцы». Едят-пьют за толстовский счет и учат его бедности, так что гости чувствуют себя хозяевами, а хозяева у себя дома – оглядчивыми гостями.
Больше, впрочем, пишут не они. Пишут великие князья, музыканты, художники, писатели, писатели, писатели, сама Софья Андреевна, все дети, внуки. Иногда и события одни и те же и те же истории – один так видит, другой эдак. А все не оторвешься. И все никак «загадку» Толстого не разрешишь, хотя нет вроде никакой загадки. Все как на ладони – прилюдно жил, да еще в своих дневниках каждый день описал, да в 11-ти тысячах писем. А все увидишь новое издание, наткнешься на незнакомый текст, и опять волнуешься, как впервые, опять перед порогом найдешь причину задержаться, чтобы не сразу войти. Как всегда, сколько бы ни приезжал в Ясную Поляну, а войдешь на «Прешпект» и всё немного «оберешься». Интересно, каким он встретит тебя сегодня.
Ну, конечно, дело не только в неисчерпаемости Льва Николаевича, а и в самом пишущем, даже если он только во все глаза на Толстого глядит, а про себя ни слова. Всё равно тут уж закон нерушимый, – непременно себя протащишь. Как если бы смотрел на героя воспоминаний через стекло, поневоле видя в этом стекле и отражение пишущего автора, да еще как будто и себя у него за плечом. Это и делает обычно воспоминания стереоскопическими и придает им воздух и глубину.
А тут глубина умножается и самим приемом, каким воспользовалась составившая книгу Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских – внучка старого военного юриста, генерал-майора Александра Владимировича Жиркевича, отлично доброго человека, вечно хлопочущего за других и оттого уподобляемого в свое время легендарному доктору Гаазу. Наталья Григорьевна собрала не только воспоминания Александра Владимировича о трех поездках к Толстому, но и все его дневниковые упоминания о Льве Николаевиче в годы, предшествовавшие поездкам, и во весь остаток жизни (а Александр Владимирович, по обычаю многих людей тогдашнего времени и самого своего кумира вел обстоятельный дневник даже и в самые тяжелые годы пореволюционной жизни – он умер в 1927 году). А также и все письма молодого тогда военного в Ясную Льву Николаевичу и членам его семьи. И что особенно замечательно – упоминания о Толстом в письмах тех, кто был эпистолярным собеседником Александра Владимировича. А это были Фет и Полонский, Лесков и Апухтин, умная баронесса Е. Остен-Сакен и ироничный Репин.
В этом стереоскопическом зеркале особенно видно, как всё в России жило Толстым, двигалось вокруг него, поверяло себя им, начиная с вагонных разговоров при подъезде к Козловой Засеке, до светских бесед и широкой тогда и повсеместной переписке. Больше-то, может, как и в нынешние времена судили и злословили, но тайком мечтали о встрече и определялись по Толстому, как по Гринвичу или зениту.
И я думаю, что Александр Владимирович простит нас, что, предваряя его мемуары и дневники, мы все-таки больше поговорим о Толстом, ведь молодой юрист и сам ехал к нему за тем же. Не знаю, почему у меня именно от этих благородных любящих воспоминаний возникло особенно острое чувство сострадания к Толстому. Ну, положим, люди приезжали разные. И Александр Владимирович, в отличие от тех 260-ти в одно лето, не вовсе без приглашения приехал. Толстой и не звал, но и не отказывал – как Бог положит. Ну, вот молодой человек и истолковал Божье положение в свою пользу.
Сколько их ехало самоуверенных, как какие-нибудь Леман, Бибиков и Ясинский, «возмущенных, что их гениальность не признается в России», и сколько молодых, вопрошающих, заготовивших исповеди или растерянных до отчаяния, как Гаршин, который при первом визите на вопрос хозяина, что ему угодно, ответил, погибая, что ему угодно «стакан водки и хвост селедки». И все (кроме непризнанных Россией «гениев») приезжали каждый со своим единственным, главным, с последними вопросами – доспросить об Учении, из первых уст узнать, что же им делать в их единственном случае. Это Стасов, Репин, Ге, Фет ехали защищенными, желанными. А эти-то молодые, искренние, часто растворявшиеся в толпе просто любопытных? Им-то каково? Ведь тут с порога – вопрос и тревога. Да и Толстому – какая тоска. Попробуйте прожить день просто, когда от вас в каждом слове ждут пророчества, поучения, откровения – белый свет возненавидишь.
Приехал Александр Владимирович, а уж пожалуйте и испытание за первым же обедом. Лев Николаевич за своим бедным, даже, кажется, без скатерти краем стола хлебает с толстовцами из одной чашки постные щи и у него «блуза с порванным боком», а гости и хозяйка – за сервированной частью крахмально сияющего стола – свои разносолы, которые подает лакей в белых перчатках. Как хотите, а это война. Тут кусок в горло не пойдет. Жиркевич ничего не комментирует, только смотрит, а мы уж чувствуем (мы-то уж что-то, в отличие от Жиркевича, читали), какой за этим ад.. А если бы еще заглянуть в дневники Льва Николаевича и Софьи Андреевны тех дней и лет (мы и тут вооруженнее долгим временем – заглядывали), когда им уже оставлено «художественное» как заблуждение, и он уже весь в учении, которое для церкви не учение, а горячая ересь. Когда уже было решено и отложено с уходом из дому, когда уже всё врозь, когда из комнаты в комнату пишутся письма, чтобы не перейти на крик, где страдание гения равно страданию его жены и неслышному пока (пока они не вырастут и не напишут своих воспоминаний) страданию детей. Вот сын Андрей с какой тоской напишет об отцовских чтениях вслух то из Шекспира, чтобы на каждом слове опровергнуть его, то из Ветхого Завета, то, что хуже всего, – свои письма-протесты, которые неизменно казались Андрею фальшивыми и «гадкими».
Счастье, молодость, любовь, живая, полная, манящая, сказать вернее – наследованная, обыкновенная, «как у всех», христианская жизнь, не превращающая всякий шаг в последний вопрос к Богу и миру, – у него позади. Это в юности всё было праздник и ответ, а теперь – всё задание и вопрос. И всё со страшной единственной толстовской искренностью, которая и манит еще не усталых, не сдавшихся суете дней русских людей в Ясную Поляну. Тем более и мир-то, как всегда к концу века, как будто втягивает голову в плечи, притихает, старается пройти «на цыпочках», потому что острее слышит Бога.
Он в этом постоянном разговоре с Богом был не единственным. Русская мысль говорила тогда о Боге много и сильно. Говорила устами Мережковского, Тареева, Розанова, Несмелова, Соловьева. И ничего. Церковь снисходительно поругивала мыслителей, но не ожесточалась. Но он не говорил. Он делал. И делал в слове, которое, в отличие от ученых коллег, умело быть таким простым, что делалось ясно каждому мужику. Он почву, землю задел, на которой небо стоит. Он вернул христианство в первоначальную пору, когда еще не было ни церкви, ни предания, ни вековых институтов, которые решили всё до и за тебя. Он встал перед Христом сам и поставил семью и русского человека. И общество отозвалось. Захотело испытать себя перед Богом. В особенности молодая часть – юноши, как тот из них, кто не выдержал вопросов Толстого, и чья мать возложила вину за смерть сына на Толстого. Как отчаянно вопрошающий Гаршин, как молодой юрист Жиркевич, который не мог согласить нечистой традиции своей службы, рвался к исправлению ее, надеялся с Толстым воскресить справедливость. Эти чистые русские Петры Гриневы, Рудины, Подозеровы (из Лескова), умевшие беречь честь смолоду, искали в пошатнувшемся мире настоящей опоры и, разучившись спрашивать с мужиком у церкви, спрашивали у литературы.
Не один раз уж умные мыслители той поры, умевшие видеть обе стороны, как М. О. Меньшиков, тогдашний ведущий публицист суворинского «Нового времени», говорили, что лучшая часть русского общества «окормлялась» тогда (вспомним этот духовно-церковный термин) у отца Иоанна Кронштадского и у Льва Толстого. И добрый, любящий Бога юноша Жиркевич не от отваги своего ума, не как парадокс, а именно как общее место повторяет в своих записях: «Идеалы людей в нашей России теперь – граф Толстой и отец Иоанн Кронштадский, вся жизнь которых – служение другим». Только огромное это влияние, кажется, было противоположно: отец Иоанн развязывал, а Лев Николаевич связывал русского человека. Вступивший на его дорогу, уже не мог быть покоен. Острые глаза Льва Николаевича видели всюду и насквозь. И любовь к обоим была разная, исключающая. Софья Андреевна радуется, слыша овацию Льву Николаевичу в трамвае, но побаивается, что у Сухаревки лавочники могут и булыжник пустить.
В переписка с Жиркевичем его корреспонденты порой подтрунивают над Толстым:
«Главный его вред заключается в его гениальности» (Апухтин),
«Воскресение». Боже, какое посрамление! (Е. Остен-Сакен),
«Толстой произвел на меня какое-то жалкое впечатление своей несокрушимой верой в миражи сантиментальности» (И. Репин),
«Янки выразились, что высшим счастьем в России было для них пожать руку Толстому» (Фет).
Но словно и оглядываются и не смеют судить его до конца, потому что всегда знают его страшную искренность и правду, которая легко отрясает все насмешки и всякую самоуверенность. Да и Жиркевич своей молодой горячностью не дает им зайти далеко. Они все по-толстовски ответственны друг перед другом, и в особенности перед любящей молодостью.
А Жиркевич потрясен первой встречей до настоящего нервного срыва, хотя услышал в свой адрес мало хорошего и о своем судейском будущем, и о понимании искусства, в котором упражнялся. Толстой к тому времени уже написал «Исповедь», которую не смог дочитать Тургенев, и «Об искусстве» и готовил большую статью «Что такое искусство», в которой спокойно и уверенно отказывал в праве называться искусством работам Микеланжело и Рафаэля, Вагнера и Бетховена, Бодлера и Метерлинка. Это он напишет спустя несколько лет после их первой встречи, а проговаривает, обкатывает в беседах уже сейчас, сбивая все привычные нормы и представления, и на все авторитеты, которыми обессилено отбивается молодой военный, только посмеивается: «Ну, какие это авторитеты?» Но, конечно, Александр Владимирович сорвется не от этого, не оттого, что его книжка торчит на толстовской полке «наполовину неразрезанная», не от требования оставить службу, в которой он надеется сделать так много, а от этой ошеломляющей искренности и первоначальной правды, которую не подделаешь. Но которой просто так и не последуешь. Он немедленно напишет: «Вы настолько подавили меня своими взглядами, что будь я один, я, быть может, окончил бы свое существование». Толстой слышал это не в первый раз и отмолчался, да это, пожалуй и было детское – скорее для выманивания очередного письма у Толстого, но вообще молодой человек действительно увидел больше, чем сумел уразуметь.
И, может быть, он теперь немного лучше станет понимать смешных яснополянских мужиков, которые по дороге со станции, вопреки общему мнению, все твердили ему, что барин их и молитвенник, и в лапотках в паломничества по святым местам ходит, и Христа блюдет строго. Мужики тут догадываются о чем-то необычайно важном, о чем господам от церкви и тем священникам, которые, потом, после отрешения Льва Николаевича, по злому слову Софьи Андреевны, «паслись» вокруг Ясной в чаянии, что их призовут и то-то у них будет торжество, и клянется и сама не пустить их, и дочерям закажет, пока не попросит сам Лев Николаевич твердо в сознании. А что он в последний час попросит, тому есть много хоть и противоречивых свидетельств (Александра Львовна сто раз пожалеет потом, что не пустила в Астапове к умирающему отцу оптинского отца Варсонофия). Похоже, мужики лучше чувствовали подлинность веры своего барина по слову, поступку, труду, самоотдаче и страданию, по тому, как граф краснеет при любой неправде.
И, вернувшись домой, юноша будет писать и писать Льву Николаевичу. Тот отвечал редко, потому что письма молодого вопрошателя были всё об одном, и могло показаться, что больше просто искали переписки, чем ждали настоящих ответов, которые он знал сам (это бывает с молодым даже тщательно изгоняемым честолюбием). По милосердию чаще отвечала Софья Андреевна. С ней Жиркевичу было проще. Он понимал ее, слышал, радовался ответам, но знал, что сила ТАМ у НЕГО, и не знал, как к ней подступиться, как выведать правила, чтобы и самому быть сильным, уверенным, подлинным и достойным ответа Толстого. Наконец, ехал снова во второй, в третий раз, опять смотрел, радовался, изострял зрение и уже отмечал в 1892 году, что Толстой будто не дома, а в гостинице. Видел, что тот всё по дороге куда-то. И все вопросы к нему как будто не поспевают застать его на месте. Он уже далеко впереди. И уже не смущался первоначально пугавшей категоричности суждений графа по отношению не к нему одному и не к его лишь суждениям и аргументам: «А-а, не трудитесь, мол, я это давно передумал».
Так и есть – он всё передумал. И для него все эти встречи – всегда немного встречи с детьми – опять они за малое и суетное, хотя он им уже и правила на каждый день написал, как духовные, так и самые простые – когда картошку на семена отбирать, хлеб молотить, лен брать, холсты белить…
Он пишет Сократа и завидует его смерти среди любимых, слышащих учеников, пишет Сковороду и завидует его свободе, излагает учение 12 апостолов, и пишет П. А. Столыпину детски увещевательные письма, чтобы тот слышал мужика и землю, и советует ему позвать из Америки Г. Джорджа (тот знает и научит). И сквозь всё и через всё пронзительнее и пронзительнее остается один, потому что все Сютаевы, Чертковы, Бирюковы, Тимофеи Бондаревы – только частные случаи его правды. Даже не ученики. Чего же говорить о домашних.
Тут подлинно впервые на всю Россию было слышно: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф.10,34) и «Враги человеку домашние его» (Мф.10,36). Тут уже не было ни быта, ни дома. Тут было – «отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф.16,24).
Они потом сами часто думали (и это не раз мелькало в воспоминаниях), что если бы он ушел раньше, они гордились бы им и страдали меньше. Особенно когда умер в раннем возрасте еще могущий всё примирить и так старавшийся согласить отца и мать, и так по-толстовски в предчувствии своей смерти в семь лет раздавший всем свои детские игрушки светильник дома младший сын Ваничка. Но Лев Николаевич всё был не геней только, не пророк, а и просто человек, всё-таки человек «мира сего», и жалость и милость не пустили его уйти раньше.
Для чего же был этот странный «опыт»? Для чего была прожита такая трудная жизнь? Для чего были написаны «Так что же нам делать?», отповеди Шекспиру, «переложения Евангелия» и особенно трудно слышимая сегодня не одними писателями, а и просто хорошим читателем статья «Что такое искусство?» – безжалостная, святая, как «сон смешного человека» пришедшая к детски простым «наивным» выводам, путем исследования, кажется, всех умнейших источников, которые существовали тогда по вопросам искусства на всех языках мира и которые он все прочитал и всё нам на языке оригинала процитировал, чтобы мы не укорили его в передергивании (он сунул нам в нос наше изощренное, не спасающее образование, чтобы не дать укрыться за «аргументами»). Для чего была написана «Исповедь» и все ненавистные Андрею Львовичу прокламации и обращения и последующие дневники, на которые потом накинутся обманчиво защищенные богословы, чтобы снисходительно укорять в гордыне и довести дело до отрешения от церкви, за которым отчетливо и страшно слышалось: зачем ты пришел нам мешать?
Зачем им, всему этому дому, было так трудно, и они жили на таком ветру, словно без стен, видные отовсюду. Зачем налетели в Астапово 271 корреспондент, которых сосчитал добрый Д. Маковицкий? Воронье, толкающееся в желании снять Софью Андреевну, на горе кирпичей, с которой она всматривается в окно, за которым он, чтобы потом сунуть туда же свои объективы, ловящие оттенки страдания в лицах Татьяны и Александры Львовны, пробивающиеся к самому, чтобы первыми прокричать черную весть, что ушел последний человек, стоявший перед Богом во весь рост и терпеливо учивший этому всех, кто хотел слышать.
По одной малой судьбе генерал-майора Жиркевича, принявшего после революции все страдания, да и по всем «оставшимся и во отшествии сущим» видно, что он, предчувствуя опасное движение мира, научил многих и лучших силе самостоянья, мужеству милосердия и бесстрашию перед истиной. Когда я по поздним дневникам Александра Владимировича Жиркевича вижу, как старый генерал ищет дров для кладбищенской старухи, чтобы не топила крестами, хотя ему самому нечем топить и он собирает по городу щепки в подкладку шинели, пока шинель не начинает греметь и на эту нелепую фигуру не начинают оглядываться прохожие, я слышу голос Толстого. Когда люди убивают друг друга за кусок хлеба, а генерал сам раздает последнее, я слышу в его терпеливом мужестве голос Толстого, его, проникающие в глубину сердца ученика уроки. Из самой бездны смерти близких и последней нищеты, обступившей генерала, его старое сердце ухватывается за толстовские слова о вере в силу любви к ближнему, о необходимости служить людям, потому что любовь преодолеет всё и напомнит о Родине: «Могу ли я унывать, когда верую в её возрождение, если не в смысле славы, побед над окружающими ее народами, то в отношении к её духовному перерождению… У меня есть Родина! Во мне Христос».
Этого Толстой никому забывать не давал и нынче дает еще меньше. Всей жизнью в середине России и христианства он напоминает, что во все времена и через все режимы у нас только и есть настоящей неодолимой силы, что любовь к ближнему, Родина и Христос. Им-то и служил вернее и искреннее всех, до крестной подлинности всё спрашивающий нас и всё не понимаемый нами в его детском мужестве, с каким только и можно стоять перед Богом, русский писатель Лев Николаевич Толстой.
Валентин Курбатов
Псков