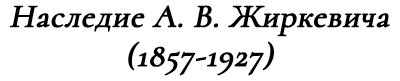Сынку Мий!
Илья Каменкович
Вы просите рассказать о самом памятном из далекой уже фронтовой жизни. Могу разочаровать вас. Я не брал «языка», не схватывался с гитлеровцами в рукопашном бою… Не посылали меня в разведку. Обошли меня вражеские пули. Не меньше и не больше однополчан досталось мне трудной работы, которая называется коротким словом «война»… Да и воевал я по молодости лет не с начала войны.
А расскажу я вам о том, что поведал мне уже состарившийся «мальчик», герой этой исповеди, о том, что я запомнил до мельчайших подробностей.
СЫНКУ МИЙ!
Мой рассказ о яркой вспышке в пламени войны – мучительной и незаживающей раной живут во мне события, как пепел Клааса стучат в мое сердце, стремясь вырваться наружу потоком горьких, как слеза матери, слов…
Я жил в небольшом селении Калининдорфе на Днепропетровщине. Свое название оно получило не от немецкого – как может показаться, – а от еврейского языка. Именно так.
В начале тридцатых годов у нас поселилось более сорока еврейских семей, решивших заниматься крестьянским трудом. Дома, где они жили, прозвали у нас «еврейской» стороной. «Украинскую» сторону занимали старожилы.
Трудно было новоселам, с потом и кровью доставалась им «азбука» крестьянского труда. Их учителями были украинские старики. Злые смешки, байки о том, как осваивали евреи, казалось бы, самые простые навыки крестьянского труда, – не редкость для нашего тогдашнего Калининдорфа.
Прошло несколько лет и в еврейский колхоз стали возвращаться после учебы в столичных институтах молодые агрономы, ветврачи, механики.
Короче говоря, уже в 1938 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке наши еврейские крестьяне удостоились высоких наград. Полноценным стал и трудодень этого хозяйства. И не в последнюю очередь именно по этой причине «выгодными» женихами и невестами стали еврейские парни и девушки. А наши украинские девчата пришлись ко двору невестками в еврейских семьях.
На веселых свадьбах зазвучали еврейские и украинские песни, соблюдались обычаи и обряды родни жениха и невесты… Рождались дети. Моя мать, попросту ее звали Фросей, вышла замуж за ветеринара Фроима. Шутили: «вот идут «фэ-фэ», или «фэ-фэ» живут на второй улице.» Был у нас свой – как тогда говорили «интернациональный» – сельский хор, и слава о нем перешагнула границы района. Мать моя была запевалой, а отец прекрасно – мечтательно и задушевно – исполнял песню «Дывлюсь я на нибо, тай думку гадаю, чему я не сокил, чему нэ литаю»…
Поверьте мне, изменились постепенно и внешний облик сельчан, и привычки, и говор – речь их приобрела какой-то приятный певучий акцент… Порой, взглянув на полногрудую, «кровь с молоком» крепкую дивчину, с трудом верилось, что перед тобой еврейка. Слились в единый наши колхозы. Будни скрашивались праздниками – их стало заметно больше, ведь охотно отмечались и еврейские, и украинские… Вспоминая наш тогдашний уклад жизни, в голову не приходит назвать его торжественно и пафосно «дружбой народов». Да и кто бы тогда стал употреблять такие официозные выражения – обычная жизнь обычного (как тогда казалось) советского села.
К весне 1941 года пришло время мне получать паспорт… И тут война. Опустел наш Калининдорф. Ушли в армию мужчины. Ушел на фронт и мой отец. Поздней осенью немцы захватили Днепропетровск. Но нас война как-то обходила. Когда фронт приблизился, коммунисты, еще не призванные в армию, ушли в леса, где уже начали создаваться партизанские отряды.
Когда «пожаловали» гитлеровцы, они прежде всего созвали сход, и переводчик – со слов какого-то «хозяйственного» фюрера – разъяснил нам, что такое «новый порядок».
Нужно ли рассказывать, что такое жизнь на оккупированной территории? Это даже детям сейчас известно – и по книгам, и по фильмам, а может быть, и по рассказам родных…
Появился у нас староста, а затем и начальник полиции – какой-то Митюк, затем сопляки-полицаи. Страшно жили… голодно… мучила неизвестность…
Пришло горячее лето 1942 года. На здании школы появилось суровое предупреждение: «Всем лицам еврейской национальности следует заявить о себе в полицию». Митюк и его полицаи прикладами и палками, угрозами и бранью решали, кого в нашем селении считать евреем. Меня определили как еврея – по отцу…
Солнечным августовским днем полицаи стали выгонять из домов «заявивших о себе» и «необъявившихся» евреев и загонять всех в пустующий колхозный амбар. Ничего из вещей брать не разрешили. Моя мать отчаянно и безуспешно пыталась доказать, что я – украинец. Взятку – бутылку самогона – полицай принял, но меня все равно забрал.
Очутился я в амбаре. Нас – безусых и стариков, женщин и детей – было человек триста, может больше…
По селу еще некоторое время рыскали шакалы-полицаи – искали скрывающихся. Наша соседка Параска Ящук (ее муж был еврей) схватила годовалого своего мальчонку и огородами побежала к реке… Ее заметил подъезжавший к селу Митюк. Догнав Параску, он с трудом вырвал младенца из ее рук и … изо всех сил в ярости ударил мальчонка головой о колесо брички. Страшный удар заглушил последний крик Параски. Она упала замертво. Так зачалась то страшное утро…
Можно ли описать, что творилось в запертом амбаре, где казалось, все было пропитано ужасом и ожиданием чего-то неотвратимого и страшного. У молодых матерей пропало молоко… Воды не было. Люди пересохшими губами ловили воздух…
Под вечер кто-то из полицаев открыл дверь амбара, и с криком «Сынку мий» ворвалась моя мама…
Никто, кроме, пожалуй, самых маленьких и стариков не мог уснуть… Мучили еще неосознанные, но самые мрачные предчувствия.
Утром увели больше двадцати мужчин. Все, кто мог, прильнули к щелям в стенах амбара. Мужчины скрылись за пригорком.
Прошло несколько часов. Вдруг тишину нарушили одиночные выстрелы, затем раздались беспорядочные залпы… Стреляют, значит – смерть… Стоял крик и плач. Кто-то упал в обморок.
Дверь вновь распахнулась. Коренастый немец с железным крестом на плотно сидевшем на нем мундире с криком «Шнель, шнель» отобрал – уже не делая различия между полом и возрастом – человек 25-30 обреченных. Их увели полицаи. В щель я увидел, как всем приказали раздеться. Стараясь не глядеть друг на друга, люди стали обреченно выполнять приказ. Потом и они скрылись за пригорком.
И вновь слышались залпы и одиночные выстрелы…
Мы с мамой оказались волею судьбы в последней партии.
Сразу же за стеной амбара нам приказали раздеться догола, сложить одежду, снять кольца и часы. Наступил момент прозрения, и люди, только что рыдавшие навзрыд, стонавшие и причитающие, умолки… Все как будто внутренне собрались, чтобы встретить свой последний час в гордом сосредоточенном молчании…
Тишину нарушил старик-плотник Гершель. Я никогда не слышал, чтобы он говорил по-еврейски, а тут, не прикрывая наготу, он вскинул голову к небу и густым баритоном хорового солиста запел, очевидно, еврейские псалмы…
Жарко палило солнце. Когда мы тронулись навстречу смерти, мама прижала меня к себе, уже не отпускала меня ни на минуту.
Нас привели к открытой яме, где уже лежало множество голых трупов. Молодой полицай толкал в яму седоволосую учительницу Рахиль Яковлевну, а она, глядя прямо ему в глаза, кричала: «Не убивать людей я учила тебя! Убей меня! Скорее, убей меня!»
Нас уложили на растрелянных. Некоторые из них еще вздрагивали…
Гитлеровцы, изрядно выпившие «полагавшееся при проведении акции», разморившись на солнцепеке, дали команду своим холуям-полицаям, и те стреляли, стреляли, что-то выкрикивали, будто в каком-то опьянении от безнаказанной возможности просто так убивать…
Мать не отпускала меня от себя. Когда выстрелы уже раздались совсем близко, мать закрыла собой мое бившееся в дрожи тело и обожгла своим горячим дыханием мое ухо: «Тыхонько, сынку мий! Тыхонько сынку мий!»
Раздались выстрелы, огнем ударило в спину, я почувсвовал, как мать вздрогнула, недосказав «сынку мий» …
Пьяные полицаи стали засыпать яму.
Когда каратели ушли, под покровом сумерек к братской еще вздрагивающей, как будто дышащей могиле, пришли сельчане.
Меня откопали, еле оторвав от трупа матери. Я очнулся в хате бабуси Одарки Гончаренко, и она выходила меня.
Вот такое было… Кажется, время способно похоронить все. Но можно ли забыть это «Тыхонько, сынку мий»… забыть последний подвиг матери, давшей мне жизнь. Это «Тыхонько, сынку мий» живет во мне и настойчиво шепчет: рассказывай!
ОБ АВТОРЕ:
Каменкович Илья Исакович (1911 — 1994), журналист и писатель. Участник Второй мировой войны, гвардии майор, награжден орденами «Отечественной войны», «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги» и другими медалями, высшей боевой наградой Чехословакии. Был членом государственной комиссии по передаче концлагеря Маутхаузен правительству Австрии.
После демобилизации жил в г. Баку. Работал редактором в издательстве, был членом Общества дружбы СССР-ГДР, членом Президиума его азербайджанского отделения. Занимался раскрытием зверств оккупантов против мирного населения и советских военнопленных, восстановлением имен советских разведчиков и членов антифашистского подполья (в числе прочих – Шандора Радо, членов группы Рихарда Зорге и «Красной капеллы»), поиском узников гитлеровских концлагерей, помощью выжившим узникам (в том числе – бежавшим из заключения в Собиборе военнопленным, включая А.Печерского). Автор антифашистских книг «Памятники вечной славы», «Песня в ночи», «Жить воспрещается», «Ночь плачущих детей». Коллекция сохраненных И.И. Каменковичем памятных артефактов, связанных с жизнью в гетто и в концлагерях, передана в Музей Холокоста в Вашингтоне, США.