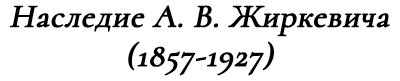«Потревоженные тени…»
Предисловие

Опубликовано:
Александр Жиркевич «Потревоженные тени. Симбирский дневник»/ Подг. текста, сост., вступ. статья, примечания Н. Г. Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна, 2007. 640 с. (К 150-летию со дня рождения А. В. Жиркевича.)
Перед вами воспоминания и дневник [1] военного юриста, литератора и коллекционера Александра Владимировича Жиркевича (1857—1927). В мемуарах, названных им «Потревоженные тени», он рассказывает о своих предках, предках жены, о наиболее ярких событиях жизни, о семейном счастье, о радостных и горьких минутах детства… Через все страницы проходит трогательный и значительный образ Екатерины Константиновны Жиркевич, он же является главным стержнем воспоминаний. Эти воспоминания — по сути, посмертное признание в любви жене — сохранились на страницах прощального письма Александра Владимировича к старшей дочери Марии в томительные дни и недели ожидания разрешения на въезд в Вильну (в 1926 году это была уже заграница), неуверенного, что он сможет когда-либо увидеть своих детей, остающихся в России. Это своего рода исповедь, прижизненный суд над самим собой. В этом хаотичном, смятенном и поразительно искреннем рассказе перед читателями не только проходит вся прошедшая жизнь генерала А. В. Жиркевича и его близких, но и раскрывается облик самого автора, человека с живой, отзывчивой душой, совестливого и правдивого.
«Потревоженные тени» по времени написаны позднее страниц симбирского дневника, и хотя на последних страницах своей исповеди Александр Владимирович вновь и вновь обращается к трагическим переживаниям симбирской поры, все же большая часть этих мемуаров посвящена светлым воспоминаниям первой половины жизни. Поэтому с «Потревоженных теней» мы начинаем знакомить читателя с частной историей семьи Александра Владимировича Жиркевича. Но… «История проходит через Дом человека, — писал выдающийся ученый-филолог Ю. М. Лотман, — через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а самостояние человека превращает его в историческую личность».
В книге представлены также пронзительные по достоверности и эмоциональному напряжению страницы симбирского дневника 1915—1922 годов. Настоящая летопись событий предреволюционной и революционной поры Симбирска, подробности страшного поволжского голода 20-х годов, свидетелем и очевидцем которых был Жиркевич. А также трогательные и поучительные истории судеб отдельных личностей, сумевших не растерять достоинство в годы нечеловеческого страдания и сохранить преданность своим интересам, своему делу, а в конечном итоге — преданность России.
В Симбирск Жиркевичи переехали из Вильны в 1915 году. В прошлом осталась деятельная и наполненная смыслом жизнь, более 20 лет службы в военно-судебном ведомстве, разнообразная общественная деятельность, многолетнее попечительство в тюрьмах и гауптвахтах Вильны. Осталась в прошлом и литературная жизнь: стихи и рассказы Жиркевича печатались в столичных журналах, выходили отдельными изданиями. Не останавливаясь подробно на жизненном пути Александра Владимировича до приезда в Симбирск, отмечу лишь некоторые события, предшествовавшие этому переезду.
С начала Первой мировой войны Александр Владимирович как частное лицо начинает посещать госпитали и лазареты Вильны, оказывая помощь раненым. Выехав с последним поездом Евангелического лазарета, бросив всю обстановку, имущество, он успевает спасти лишь часть своей огромной коллекции, которую вывозит в Симбирск. Здесь он очень скоро становится общественным попечителем нескольких больших госпиталей Симбирска, трех тюрем, военно-гарнизонного кладбища, принимает участие в работе Симбирской архивной комиссии. С первых дней революции семья бедствует. Жиркевич перебивается случайной работой — преподает на командных красноармейских курсах, в школе кожевенного производства, служит архивариусом в губфинотделе. В 1921 году от голода и лишений умирает Екатерина Константиновна, жена Жиркевича, и он остается один с тремя дочерьми.
В эти годы Александр Владимирович совершает поступок, который делает его заметной фигурой среди культурных деятелей Поволжья. В тяжелые годы поволжского голода, пережив смерть жены, крушение своих идеалов и готовясь к возвращению в Вильну, он решает оставить городу свою огромную коллекцию живописи, графики, старопечатных книг, предметов историко-литературного значения — «Родине и русскому народу», как сказано в описи. Назначает сумму в 10 миллиардов рублей, поразившую современников своей незначительностью, несоответствием той ценности, которую представляла коллекция (около двух тысяч единиц по описи). [2] (Напомню, что инфляция в те дни достигала таких размеров, что 1 миллион приравнивался к 1 рублю, пуд хлеба на рынке стоил 2,5 миллиона, ремонт сапог — 30 тысяч рублей, а заказное письмо — 22 тысячи!)
Жиркевич страдал, получая деньги, потому что нарушал свой принцип — не продавать, а только дарить музеям, как делал это в течение всей жизни. Советские и партийные органы власти прислали ему благодарственные адреса, а также пять пудов муки и солдатскую шинель в подарок, поскольку Жиркевич продолжал ходить в генеральской, вызывая недоумение у прохожих. Художественный музей в Ульяновске этим поступлением увеличил свои фонды вдвое и стал одним из ведущих музеев Поволжья.
Выехать в Вильну Александру Владимировичу удалось лишь в 1926 году, после долгих раздумий и только для устройства имущественных дел. Но обстоятельства сложились так, что он вынужден был остаться в Вильне. Через год он заболел, и 13 июля 1927 года Александра Владимировича Жиркевича не стало.
В историю русской культуры А. В. Жиркевич вошел как свидетель жизни многих выдающихся людей России. «Летописец русской культуры» — так назвал Александра Владимировича один из исследователей. Он был знаком и состоял в переписке с писателями: А. Н. Толстым, А. П. Чеховым, Н. С. Лесковым; поэтами — А. Н. Апухтиным, Я. П. Полонским, А. А. Фетом, К. М. Фофановым; художниками — И. Е. Репиным, В. В. Верещагиным, М. Н. Нестеровым, А. И. Айвазовским; виленским архиепископом Тихоном (будущим патриархом Тихоном); выдающимся судебным деятелем А. Ф. Кони, умной баронессой Е. К. Остен-Сакен и многими, многими другими, интересными, но забытыми нашим временем, талантливыми представителями российской культуры и истории.
Личный архив Александра Владимировича Жиркевича хранится в Государственном музее А. Н. Толстого, переданный им в 1925 году, и по объему является одним самых значительных собраний музея. Он состоит из дневниковых записей (1880—1925 гг.) объемом в 8,5 тысяч листов, 4500 писем от 552 респондентов, 13 альбомов с автографами и уникальными фотографиями.
Более двадцати лет Александр Владимирович прослужил в Виленском военно-судебном ведомстве. Многие за филантропическую, милосердную деятельность называли Жиркевича последователем д-ра Гааза. В дальнейшем эта деятельность стала распространяться на всех, кто нуждался в защите законных прав, моральной и материальной поддержке. В годы Первой мировой войны ими стали раненые, которых Жиркевич, будучи к тому времени генерал-майором в отставке, ежедневно навещал, оказывая необходимую помощь. В РГАЛИ [3] хранится также папка с письмами (их более двухсот) к Жиркевичу от вдов, раненых, сирот с просьбой о помощи.
Обладая смелым, независимым характером и одновременно редким по состраданию к несчастью других сердцем, Александр Владимирович болезненно переживал унижения солдат, телесные наказания, розги и приложил много усилий, чтобы искоренить эти порочные явления. На страницах дневника сохранилось множество историй отдельных человеческих судеб.
Помимо военной службы Александр Владимирович занимался литературным творчеством (издал два поэтических сборника, книгу рассказов, написал ряд очерков). [4]
Мечтая создать выдающееся литературное произведение, Александр Владимирович не подозревал, что его главным литературным наследием станет «Дневник», который он вел более сорока пяти лет и который отразил события российской истории конца XIX — первой половины XX века. Занимался он также благотворительностью — личной и общественной. Принимал участие в жизни Красного и Белого Креста, в архивных и археологических изысканиях. Когда в 1903 году Жиркевича переводили по службе из Вильны (Вильнюс) в Смоленск, виленская газета «Западный вестник» (от 6 ноября 1903 г.) откликнулась на это событие статьей, в которой говорилось:
«…Наш город должен искренне сожалеть, что лишается такого энергичного и живого человека, такого деятельного гражданина. Смело можно сказать, что не было в Вильне полезного предприятия, на которое он не отозвался бы своею русскою, сочувствующей душой. Устраивалась ли школа какая-нибудь, затевалось ли благотворительное дело — в числе первых деятелей непременно встречается имя А. В. Жиркевича. Он хлопочет, приглашает сочувствующих лиц, собирает материальные средства. Нужна ли серьезная помощь какому-нибудь действительно нуждающемуся человеку — смело обращайся к А. В. Жиркевичу, уж он как-нибудь да устроит дело…»
Александру Владимировичу было присуще удивительно развитое чувство исторической значимости каждой важной встречи или события. Отсюда и его многотомный «Дневник», на страницах которого сохранились подробности встреч с выдающимися представителями культуры, государственными и общественными деятелями России. Отсюда и стремление к коллекционированию не только предметов искусства, но и всего того, что могло бы помочь сохранить для потомков историческую и культурную память о своем времени. Александр Владимирович считал это главной целью своего собирательства, о чем говорит содержание его архива. А ему было что вспомнить.
Самое удивительное, что, с юных лет выстроив линию своего жизненного пути (с одной стороны, помощь «униженным и оскорбленным», а с другой — сохранение исторической и культурной памяти), он не изменял своим принципам ни при каких обстоятельствах. И когда жил благополучной жизнью, заполненной служебной и филантропической деятельностью, литературным творчеством, встречами с интересными людьми своего времени, и когда дошел до крайней степени нищеты во время поволжского голода 1921 — 1922 годов (спасаясь от немцев, семья оказалась в Симбирске на долгие одиннадцать лет). Александр Владимирович даже в эти страшные годы находил тех, кому было хуже, чем ему, и неизменно старался их поддерживать. Его любимыми девизами на протяжении всей жизни были «И один в поле воин» и «Спешите делать добро», а любимыми героями Дон-Кихот и Рудин. В маленьком стихотворении Жиркевича, которое вынесено в эпиграф, пожалуй, выражено все его жизненное credo. Русский дворянин, всю жизнь служивший России, отдавая свою коллекцию живописи, рисунков, эскизов, предметов историко-культурного значения государству в суровое время 1922 года (около 2000 единиц), опись своего собрания начинает словами: «Родине и русскому народу…»
Огромная переписка, хранящаяся в архиве, свидетельствует о том, что личность Жиркевича — человека необычайно деятельного, с горячим и отзывчивым сердцем, влюбленного в искусство и очень доброго — привлекала многих.
Несмотря на то, что имя Александра Владимировича неоднократно встречалось в монографиях о В. В. Верещагине. И. Е. Репине и в других работах, его огромный архив многие годы находился в забвении. С начала перестроечной эпохи отношение изменилось: сохраненные им документы становятся востребованными отечественной историей и культурой, а личность Александра Владимировича Жиркевича, цельность его натуры, преданность выбранному жизненному пути, совестливость, отзывчивость и бескорыстие (качества, присущие настоящему русскому интеллигенту) все больше привлекают к себе внимание.
На одной из страниц автобиографии Жиркевич записал:
«…Мои дневники, мои альбомы с фотографиями и автографами! Мой литературный архив! Кому все это сейчас нужно, интересно, поучительно… А что-то говорит мне, что меня еще вспомнят, если документы моей жизни сохранятся…»
«…Думаю, что, когда меня не станет, меня еще вспомнят теплым благодарным словом, простив те вольные и невольные прегрешения и ошибки, которые мною совершались, так как, будучи человеком, обыкновенным смертным, я не мог не заблуждаться, не падать, не причинять зло ближнему, особенно при борьбе за правду…»
Я никогда не знала своего деда, и мое знакомство с ним состоялось на страницах его огромного архива, с которым работаю уже много лет. Чаще всего он представляется мне в свои зрелые годы… Выше среднего роста, с прямой военной выправкой, уже полнеющий, с голосом, в котором слышны убедительные интонации, иногда ворчащего дома (а на ком еще можно сорвать накопившуюся за день усталость!), быстрого, решительного на поступки… Но и в годы страшного поволжского голода — все та же выправка, та же убедительность в голосе, но уже на теле, высохшем от голода и страданий, и все то же желание и умение поддерживать тех, кому было хуже, чем ему.
Я всматриваюсь и в бабушкин портрет: одухотворенное лицо, умные, внимательные глаза, четкий абрис лица выдает определенность и устойчивость внутреннего мира. Глубокая вера в Бога всегда помогала ей в трудные минуты: и когда она оплакивала детей, и когда переживала голод, нищету в революционном Симбирске. Кроткая и боязливая по натуре, бабушка не раз проявляла чудеса мужества, спасая деда от арестов и репрессий. Бабушка, «потерявшая все, что имела, умиравшая нищей», успокаивала деда в страшные годы поволжского голода словами: «Бог дал, Бог и взял! Да будет на то Его святая воля!»
Мне жаль, что моя встреча с ними состоялась так поздно…
Н. Жиркевич-Подлесских
Приношу благодарность за помощь в составлении примечаний сотруднице Ульяновского краеведческого музея Мирре Мироновне Савич и ульяновскому краеведу Сергею Борисовичу Петрову. Благодарю также директора Ульяновского художественного музея Татьяну Федоровну Верещагину и заместителя директора по научной работе Луизу Петровну Баюру, всегда оказывавших мне поддержку в работе с наследием деда. С признательностью вспоминаю краеведа Александра Николаевича Блохинцева, первого познакомившего меня с подробностями симбирской истории. Огромная благодарность директору Государственного мемориального заповедника В. И. Ленина Александру Николаевичу Зубову и старшему научному сотруднику Екатерине Куликовой за присланные фотографии. Благодарю также Елену Владимировну Лаврентьеву, по инициативе которой возникло это издание, и моих фрязинских друзей — кандидата физико-математических наук Екатерину Георгиевну Мансветову и старшего научного сотрудника Мандельштамовского общества Сергея Васильевича Василенко — за постоянную готовность прийти на помощь в трудные для меня минуты при подготовке этого издания.