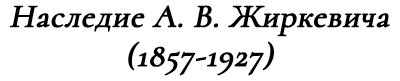«ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ…»
А. В. Жиркевич
Воспоминания А. В. Жиркевича об истории рода, составленные в виде письма для старшей дочери Марии.
Памятка
из нашего семейного прошлого,
для дорогой моей дочурке Манюточке,
вызванные ее интересом к этому прошлому,
От любящего и уважающего ее папы –
на доброе воспоминание
(в виде письма к ней).
1) «Жизнь кончена! Начинается житие…» (Слова, сказанные мне известным писателем Всеволодом Владимировичем Крестовским).
2) «И ты прошла!.. И ты – воспоминание» («Венеция» Апухтин).
3) «Могила… Да! Но отчего порой так хороша, пленительна могила!» (Апухтин).
Москва. Улица Льва Толстого.
Дом № 21 (Толстовского Музея)
9 – 15 января 1926 года
Начато 9 января 1926 г. в Москве.
Дорогая моя Манюточка!
В последние наше свидание ты высказала такой живой интерес к нашему семейному прошлому и желание, чтобы я рассказал тебе о нем, что я, пользуясь обильными досугами, вызванными невольным пребыванием моим в Москве, хочу сообщить тебе кое-что по интересующему тебя вопросу.
Имей в виду, что наши фамильные бумаги оставлены мною в Ульяновске в одном из сундуков, от которых у тебя имеются ключи. Там же находится и моя автобиография, вызванная в прошлом или позапрошлом году, желанием Гончаровской Библиотеки иметь краткую записку о моей жизни – деятельности. Начав писать, я расписался, составив довольно обширную тетрадь, в которую, случайно вошли подробности чисто частного, семейного характера. Перечтя написанное я подарил тетрадь Кате, которая, укладывая вещи, вложила в сундук и эту записку. Библиотеке же, я дал, другую, более краткую, кажется, удовлетворившую ее запись.
Кроме того, в одном из альбомов, пожертвованных мною Московскому Толстовскому музею, имеется, составленная много лет тому назад, для словаря писателей проф. Венгерова, краткая моя биография. Если бы тебя и твоих сестер она заинтересовала, то музей, конечно, даст вам возможность и с этой рукописью ознакомиться.
Объясняю тебе все это для того, чтобы ты поняла, почему настоящая мой памятка, за отсутствием под рукою документальных данных, которыми я пользовался, при составлении двух первых заметок, страдает неполнотой, а, может быть, и неточностью.
Имей также в виду, что все печатные мои сочинения, равно как и экземпляр записок деда моего (и твоего прадеда) Ивана Степановича Жиркевича, печатавшихся в «Русской Старине» и «Историческом Вестнике», оставлены мною для тебя и сестер в ящиках и сундуках, находящихся в Ульяновске.
После такого, вынужденного вступления, начинаю для тебя, дружок, мои воспоминания.
По кольцу, которое ты носишь на руке (Мамочкиному), ты знаешь, что свадьба наша была осенью 1888 года (год окончания мною Александровской Военно-Юридической Академии и моей болезни в Петербурге тифом, которая едва не помешала и окончанию Академии, и моей свадьбе).
Я любил нашу Мамочку еще до поступления в Академию, решив сделать ей предложение, как богатой девушке, лишь тогда, когда окончу Академию, т.е. если получу известное положение на службе и в обществе. Таким образом, если бы я Академию не кончил, то не решился бы делать и предложение.
Я заболел тифом при самом почти окончании Академии, перед выпускными экзаменами. Академический доктор Я. Б. Бретцель, знавший меня еще в детстве, свез меня из грязных меблированных комнат, в которых я тогда жил, в роскошный лазарет Л. Гв. Конного полка. Оттуда, немного оправившись, получив от докторов свидетельство о невозможности заниматься без вреда здоровью, я обратился к моему академическому начальству, с просьбою перенести мои экзамены с весны на осень. Но мне в этом отказали.
Надо тебе заметить, что до этого, приезжая из Академии в Вильну на летние каникулы, я ни чем не выдавал моих чувств к Мамочке, чтобы преждевременно не связывать ее словом, тем более, что у нее были претенденты на ее руку, которым она отказывала. Я бывал в ее доме на правах просто хорошего знакомого, задолго до поступления в Академию, когда семья ее состояла из нее, брата ее – близнеца Андрюши, престарелого «дедушки», бывшего профессора Виленского университета Павла Васильевича Кукольника и воспитательницы Варвары Ивановны Пельской. Пельская была незаконная дочь Московского кн. Трубецкого и купчихи, в замужестве за Владимиром Петровичем Пельским, мать которого тоже была кн. Трубецкая. «Тетя», как у нас в семье звали Пельскую, сначала от князей Трубецких, а потом от князей Орловых получала пожизненную пенсию.
Когда в Друскениках, от чахотки, умирала мать Мамочки и Андрюши, уже вдовою, то вызвала к себе старую свою знакомую Пельскую и упросила ее взять на себя обязанности воспитательницы ее сирот, что «тетя» и исполнила. Опекуном же Мамочки и дяди Андрюши был назначен Петр Иванович Лего, женатый на Софье Тимофеевне Александровой, из той семьи Александровых, с которой был дружен, и в которой давал уроки пения композитор Михаил Иванович Глинка. Сестра m-me Лего Вера Тимофеевна была замужем за родным братом матери нашей Мамочки – Ильей Алексеевичем Пузыревским. Отсюда родство Пузыревских с Лего. Мать Мамочки, Мария Алексеевна Снитко, родная сестра И. А. Пузыревского, была дочерью богатого помещика Ковенской губ. Россиенского уезда, жившего в им. «Лабардзи». После смерти стариков Пузыревских, Лабардзи перешло, по жене Юлии Алексеевны, рожденной Пузыревской, к мужу ее Павлу Васильевичу Кукольнику, который и завещал его, как родовое Мамочке.
В отчаянии от отказа отложить экзамены на осень, видя все мечты мои о семейном счастье погибшими, я решился сделать Мамочке предложение из Лазарета, объяснив ей, что люблю ее давно, что из-за нее пошел в Академию, но что теперь, в виду запрета врачей, Академии кончить не могу. Поэтому, если она согласится выйти замуж за меня, то ее, быть может, ждет судьба жены армейского, бедного подпоручика, жизнь где-нибудь в глухом городишке, водиться с денщиками и т.д. Надо заметить, что, еще, будучи в Лазарете, я сделал попытку, вопреки запрету врачей, готовиться к экзамену, тайно; но результатом этого усилия был рецидив тифа. Я забыл еще упомянуть, что самую болезнь я получил на почве нужды, дурного питания, вообще от нездоровых, негигиеничных условий жизни во время пребывания в Академии. Вскоре я получил от Мамочки ответ с согласием выйти за меня замуж, даже если я останусь простым пехотным офицером; с просьбой бросить Академию и думать только о моем здоровье.
К этому времени мой родственник член Государственного Совета Н. Н. Герард, посетивший меня в лазарете Л. Гв. Конного полка, узнав о критическом моем положении, решил хлопотать у Военного Министра генерала Ванновского об отсрочке для меня экзаменов, на что я согласился…
Согласие же Мамочки так подняло мой дух, что я, не слушая врачей Лазарета, выписался на частную квартиру, написав Герарду письмо с просьбою не хлопотать обо мне. Несмотря на общую слабость организма и ослабление памяти, я стал готовиться к экзаменам и выдержал их все хорошо, отчасти с курсом, догнав товарищей, отчасти отдельно.
Мамочка прислала мне иконку на серебряной цепочке, которую я всегда носил при себе, в кошельке (у нее был сломан запор), и которую, вместе с кошельком, украли у меня в нынешний мой приезд в Москву.
До свадьбы много горя пришлось мне пережить с Мамочкой. В это время, когда тетя Пельская стояла на том, чтобы она вышла за меня замуж, несмотря на мою бедность и перенесенную тяжкую болезнь, опекун Мамочки П. И. Лего не только восстал против нашей свадьбы, но в ответ на мое письмо, прислал ответ, незаслуженно для меня оскорбительный. Не особенно любезное письмо прислал мне и брат Мамочки Андрей Константинович Снитко, находившийся под влиянием своего дяди Лего. Но Мамочка, всегда столь покорная воле опекуна П. И. Лего и его жены, на этот раз выказала твердость характера, которую от нее не ожидали; она решила, все-таки, выйти за меня замуж, вопреки мнению опекуна. За это ослушание, он не только не был на свадьбе, но даже не прислал нам благословения. До самой его смерти я у него не бывал, и он тоже не бывал у нас. M-me Лего бывала. Катя, с моего согласия, водила к ним, в собственный их дом на Большой Погулянке Гулешу. С П. И. Лего, при встречах на улице, я был только на поклонах. Все это, конечно, огорчало Мамочку. За несколько дней <до свадьбы. – Н. Ж.> она, стоя на коленях, просила меня забыть оскорбительное письмо ко мне П. И. Лего и пойти первому к нему на примирение, умоляя сделать это ей в виде свадебного подарка. Но я решительно отказался идти на подобное унижение, заявив, что пусть сам Лего, меня обидевший, письменно возьмет свои слова назад. На этом наши переговоры кончились. Свадьба же состоялась без участия четы Лего.
Свадьба была отпразднована парадно. Обряд бракосочетания был совершен в Пречистенском соборе, протоиреем Котовичем, при хоре архиерейских певчих и при массе публики, гостей и посторонних, собравшейся взглянуть на богатую невесту. Карет было множество. На Мамочке было дорогое венчальное платье из белого муара-антика, с парадной пуховою накидкою на плечах. Из церкви все поехали на нашу новую квартиру, в доме Зайончика, роскошно декорированную тропическими растениями и цветами. Шампанское лилось рекою. Главный состав гостей был из представителей военно-судебного ведомства. Посаженной матерью была Прасковья Ильинична Кропоткина (ур. Бибикова), старая знакомая Тети, и мой бывший командир полка Иван Иванович Максимов. Икону вез Илюша, сын Кропоткиных. Прямо с квартиры, после разъезда гостей, я и Мамочка поехали в Петербург, в свадебное путешествие – знакомиться с моими родными, там жившими. В Петербурге мы пробыли около месяца, делая визиты родне, участвуя в устраиваемых для нас фамильных обедах, бывая в театрах, главным образом в опере и балете. Жили мы в одной из лучших гостиниц города, занимая номер в две комнаты, где и устраивали завтраки для моих литературных друзей Фофанова, Величко, Лемана и др. Я познакомил Мамочку с другом моим художником И. Е. Репиным, который, для Мамочки, написал с меня портрет черной масляной краской (он сейчас находится в Ульяновском художественном музее). Дядя Мамочки, родной брат ее отца Константина Михайловича Снитко, отставной генерал Адам Михайлович Снитко поднес нам прекрасный чайный сервиз. Двоюродный брат Мамочки худ. Павел Ильич Пузыревский подарил ей хороший пейзаж своей работы, в дорогой раме. Ив. Ив. Максимов поднес нам ящик с серебряными принадлежностями для обеда.
Родня наша, у которой мы с Мамочкой бывали, в те дни состояла из следующих лиц:
1) С моей стороны. Братья Герарды и их жены – Николай Николаевич (член Госуд. Совета), Владимир Николаевич (известный присяжный поверенный) и Иван Николаевич (финанисист). Сенатор Иван Михайлович Гедеонов, уже слепой, но чрезвычайно тепло к нам относившийся. У Герардов Мамочка познакомилась с художником Н. Е. Сверчковым и поэтом А. Н. Апухтиным, у которых мы с нею бывали; при чем Апухтин был Мамочкиным кавалером во время парадного обеда у Н. Н. Герарда и поднес потом Мамочке свои стихи, рукопись которых находится теперь в одном из моих альбомов. Мы посещали в Павловском Институте воспитывавшуюся тогда сестру мою Машу (в замужестве Марью Владимировну Травину).
2) Со стороны Мамочки мы были у ее родных: а) Сухомлиновых, Владимира Александровича, тогда начальника офицерской Кавалерийской школы, впоследствии военного министра и генерал-адъютанта, и у его матери; б) Плеве, Павла Адамовича, тогда полковника Генерального штаба, впоследствии, в войну с Германией – Главнокомандующего одной из армий, и жены его Веры Александровны, рожд. Сухомлиновой, сестры Владимира Александровича Сухомлинова; в) Пузыревских – Ильи Алексеевича и Веры Александровны, уже упоминавшихся выше, дети которых Алексей Ильич (профессор Петербургской консерватории), Павел Ильич (художник, которого ты, Манюточка, знала по Симбирску), Илья Ильич (тогда офицер 108 п. Уфимского полка, живший в Вильне) и дочь Марья Ильинична, впоследствии вышедшая замуж за писателя Николая Николаевича Венцеля, были двоюродными братьями Мамочки.
Из Мамочкиной родни я тогда узнал брата Владимира Александровича Сухомлинова ген. Николая Александровича Сухомлинова, впоследствии генерала-губернатор какой-то части Сибири, Марью Антоновну Пузыревскую (вдову профессора), Вилькенов, Шацких и др. Все это радушно нас принимало, угощало и дарило Мамочку вниманием.
Чтобы покончить с предками нашими и родными, прерву рассказ, и займусь родословной, чтобы ты, дружок, на всякий случай ее знала.
Мой род – старо-польский, носивший фамилию Сфурс-Жиркевичей, некоторые предводители которого были придворными при дворах польских королей, потом измельчал, обеднел, из Польши перешел в Россию и стал православным. Ведь мой дед генерал Иван Степанович Жиркевич, равно как и отец его, были православными. Иван Степанович, гвардейский офицер, герой 1812 года, личный адъютант графа Аракчеева, был впоследствии губернатором Симбирским и Витебским, скончавшись в большой нужде, в отставке, в Полоцке, кажется, в 1847 году, от холеры. Могилы его и его жены затеряны.
Дед был женат на Александре Ивановне Лаптевой, дочери известного генерала Лаптева. Остальные дочери генерала Лаптева вышли замуж за Гедеонова, Апухтина, Измайлова, Гольцова. Отсюда наше родство с этими фамилиями, в том числе и с Герардами, по матери их, рожд. Пирамидовой, родственницы Ивана Степановича Жиркевича.
Известный директор Императорских Театров Александр Михайлович Гедеонов приходился близким родственником Ивану Степановичу Жиркевичу. Двоюродный брат моего отца генерал Николай Александрович Измайлов был женат на родной сестре композитора Михаила Ивановича. Глинки. Саша Измайлов, которого ты знаешь, сын его. Сыном их был и заведующий Конским Дубровским заводом великого князя Дмитрия Константиновича генерал Федор Николаевич Измайлов.
Мать моя, а твоя бабушка, была рожденная Астафьева, дочь Марии Иосифовны Астафьевой, которою ты знала, и которая умерла в Вильне, и Александра Ивановича Астафьева. Мать этого Астафьева была княжна Кропоткина. Отец же моей бабушки Марии Иосифовны Астафьевой, Новгородцев был комендантом какой-то крепости на Востоке, в чине полковника.
Я знал, по Петербургу, родную сестру Александра Ивановича Астафьева, старую деву, сестру милосердия Астафьеву.
Скажу несколько слов о предках Мамочки. Отец Мамочки Константин Михайлович Снитко был Виленским уездным предводителем дворянства, богатым помещиком, жившим <>то в главном именье Карльсберг (Виленской губ. Вилейского уезда), где ты часто гостила у «дяди Андрюши» с Мамочкой, Гулей и сестрами. Женат он был, как я уже сказал, на Марии Алексеевне Пузыревской.
У него были братья – генерал Адам Михайлович Снитко, о котором я тоже уже упоминал, Осип Михайлович и др.
Родители Снитко были униаты, как ктиторы, погребены в склепе под церковью в селе Верхнем Виленской губернии Дисненского уезда.
Одна из сестер Константина Михайловича Снитко была замужем за князем Друцким-Любецким.
У профессора Павла Васильевича Кукольника, дяди Мамочки, были два брата Нестор Васильевич Кукольник, известный писатель, и Платон Васильевич Кукольник, друзья Глинки и Карла Брюллова.
После отца Константина Михайловича Мамочка, по разделу с братом Андрюшей, получила именье Богданово, Виленской губернии. Дисненского уезда, находящееся в 26 верстах от вышеупомянутого села Верхнего.
Генерал Осип Михайлович Снитко был женат на Анне Петровне, жившей, после его смерти, в именье Мазурино, недалеко от имения Богданово. У них были дети – Миша, Юзя (Осип), Петя Снитко, все сначала воспитывавшиеся в кадетском корпусе. Где они теперь не знаю.
Надо тебе заметить, что на мраморных досках Храма Христа Спасителя в Москве, упоминаются, в качестве героев 1812 года, Иван Степанович Жиркевич и его родные Сфурс-Жиркевичи, как убитые, получившие боевые знаки отличий.
У Ивана Степановича Жиркевича были дети Владимир (мой отец), дочь Зинаида Ивановна в замужестве Ган и приемная дочь Александра Ивановна Нахтман.
У Зинаиды Ивановны Ган были дети Володя, Леша, и дочь Саша, вышедшая замуж – за кого не помню. Жива ли она, не знаю?
И. С. Жиркевич, дед мой, сделавшись губернатором, перестал употреблять приставку «Сфурс», напоминавшую о польском происхождении его предков. Отец мой и я тоже ее отбросили. Мы стали именоваться просто «Жиркевичами».
Андрюша Снитко (брат Мамочки) был женат на Елизавете Никитичне Власовой, дочери почтово-телеграфного чиновника. У них – дети: Всеволод-Сева (убитый в Германскую войну), Адя (Андрей), ныне здравствующий, и Верочка (в замужестве за депутатом Польского Сейма от Белоруссов Тарашкевичем, живущая в Вильне).
Художник Павел Ильич Пузыревский был женат на Елене Александровне Сталевской, дочери незаконного сына Александра Сталевского, который был арендатором одного из имений Андрюши Снитко. Елена была служанкой в доме Ильи Алексеевича Пузыревского, где Павел Ильич с нею и сошелся. Прижив с нею ребенка, он имел порядочность на ней жениться и тем загладить свой поступок. У них дети – Павлуша (Павел), Котя (Константин) и Петя (ныне здравствующий, живущий в Ленинграде).
Сестра Елены Алексеевны Пузыревской (рожд. Сталевская), которую мы звали «Зосей», была нянькою у твоего брата Гули и других наших детей Теперь, получив от Елизаветы Никитичны Снитко именья она стала помещицей в Виленской губ. (Польша).
По деду Ивану Степановичу Жиркевичу нам приходились родными Михайловские, Полосковы, Валентин Сергеевич Сфурс-Жиркевич (которого ты знала по Москве).
По бабушке моей Марьи Иосифовны Астафьевой, рожденной Новгородцевой и ее предкам, мы были в родстве с кн. Голицыными <2 слова нрзб>, Аксаковыми (писателями) и другими видными лицами; но я их не знал. Знал только Новгородцевых – вдову брата бабушки, – Николая – Александру Ивановну Новгородцеву и сыновей ее Николая и Александра Новгородцевых (все они давно умерли).
Со стороны Мамочки я знал еще дядю ее, артиллерийского генерала Якова Ивановича Костогорова и его детей, а равно Лунских Ивана и Ивановича и Ольгу Ивановну и детей их Володю, Колю и Олю (Ольгу Ивановну Лунскую, которую ты, верно, помнишь еще по Вильне. Жива ли она – неизвестно).
Кстати будет заметить, что отец мой Владимир Иванович, рано стал пить и играть в карты. Женившись на моей матери, он, будучи артиллерийским офицером, продолжил ту же жизнь. Это порвало связи его с роднею, которая избегала общенья с ним и лишь изредка оказывала ему протекции, когда, уйдя с военной службы, он стал кочевать с места на место по службе гражданской.
Благодаря этому, мне, при поездках моих в Петербург, в качестве армейского офицера, пришлось самому знакомиться с моей знатной, хорошо поставленной в столичном обществе родней. Последняя, однако, меня скоро полюбила, так что, когда я ввел в нее Мамочку, в качестве моей молодой жены, то ее приняли там очень тепло. Впоследствии, семьи Герардов, проезжая через Вильну, останавливались у нас, а мы (я, Мамочка, покойный Гуля и Варя гостили у Николая Николаевича Герарда и его жены в их именье «Демьянки», Могилевской губ., Гомельского уезда). Я же гостил в именьях Владимира Николаевич Герарда и Веры Александровны Добровольской (родной сестры Герарда Надежды Александровны, рожд. Ушаковой), в Волынской губернии.
Когда я был в Академии, то подкармливался на родственных обедах у Герардов и Добровольской, что не спасло меня от тифа.
У всех моих родных были дочери. Когда они стали выходить замуж, то родство наше расширилось.
Сын Марьи Николаевны Врангель-фон-Гюбенталь Леонид (Лоло) Владимирович женился на Храповицкой, внучке генерал-адъютанта Храповицкого, владетельнице майората, внучке статс-дамы баронессы Вревской, генерал-адъютанта графа Гейдена и других высокопоставленных лиц. Будучи в Академии я был на их свадьбе в качестве шафера.
Надя Добровольская вышла замуж за гвардейского офицера Эллиса, сына коменданта Петро-Павловской крепости генерала Эллиса. Я тоже был шафером на их свадьбе.
Мой родственник Александр Николаевич Апухтин женился на дочери свитского генерала Арапова.
Дочь Ивана Николаевича и Натальи Николаевны Герард вышла замуж за офицера Л. Гв. Преображенского полка Тилло.
Вот в какое общество ввел я покойного нашего Гулешу, когда, по окончании Морского корпуса, он стал морским офицером. И его там оценили и полюбили.
На этом оборву я мою заметку о наших предках и родных и стану продолжать описание нашей семейной жизни.
При женитьбе я, хотя и окончил Академию, но по закону, считался, первое время, лишь прикомандированным к военно-судебному ведомству, почему и на свадьбе, и в первое время службы в этом ведомстве, носил мундир 108 пехотного Саратовского полка, в котором служил до поступления в Академию полковым адъютантом.
Будучи бедным офицером, я вошел в дом моей жены с убогим багажом, сразу же попав на положение обеспеченного человека. У Мамочки были доходы с имений, имелся небольшой капитал. Жила она с тетей Пельской (Андрюша учился в Рижском политехникуме) безбедно, хотя и скромно. Я застал в доме ту роскошную мебель, принадлежавшую В.И. Пельской, которую ты помнишь с детства, и которую «Тетя», умирая, оставила нам по завещанию. Теперь она, при бегстве нашем в 1915 году из Вильны, от немцев, раскрадена управляющим того дома, что на Набережной, в котором мы жили в последнее время. В дому была кухарка, она же и горничная. Кроме того, одно время, жила с нами старая экономка – немка «Домброся», много лет находившаяся в семье Кукольников – Снитко. По наследству Мамочка, от разных предков, получила много хороших, ценных вещей. Все это наполняло довольно обширную, уютную нашу квартиру, в которой было много цветов, на столах лежали дорогие издания. На стене висел дивный портрет Павла Васильевича Кукольника, работы друга его Карла Павловича Брюллова (ныне отданный мною в Ульяновский художественный музей). Все еще дышало фамильными воспоминаниями В.И. Пельской, Кукольников, Пузыревских. Когда пошли у нас дети, «Домброся» переехала к Андрюше Снитко, в именье Карльсберг (Витебской губ. Вилейского уезда), доставшееся ему по разделу. Но зато стали появляться в доме у нас кормилицы, бонны, гувернантки (немки, француженки), учительницы музыки, учителя рисования и т.д. Средства были. На образование же ваше и воспитание Мамочка средств не жалела и, как прекрасно знавшая языки немецкий и французский, а также недурно и английский, недурно певшая и игравшая на рояле, принимала живое участие в вашем образовании.
Будучи бедняком, не принеся с собою ничего, я вошел в дом Мамочки так, как будто бы всегда жил в нем, в полном довольстве, на всем готовом, и «Тетя», с которой установились у меня еще ранее, до женитьбы, хорошие отношения, и Мамочка были, настолько воспитаны в лучшем смысле этого слова, что я не чувствовал унизительности положения человека, живущего на чужих хлебах. И, по правде сказать, я скоро привык к удобствам, обстановке, хорошему столу и другим преимуществам вполне обеспеченной обстановки, хотя всегда благодарно относился к членам приютившей меня у себя стародворянской семьи.
Со временем, когда я перешел в военно-судебное ведомство, т.е. получил и положение в обществе, и стал получать порядочное содержание, я стал чувствовать себя несколько лучше, как вносящий и свою долю в общую семейную кассу – на жизнь и удовольствия.
С дядей Андрюшей мои отношения скоро тоже наладились, так что мы с ним стали говорить и переписываться на «ты». Когда между ним и Мамочкой, согласно завещанию их родителей, произошел раздел, Мамочка, в первое время, сама вела всю скучную, сложную переписку по именьям с арендаторами (все именья ее были в аренде). При ее добросовестности, доброте, боязни обидеть кого либо, желании помочь ближнему, облегчить чужую участь, она иногда, по ночам, устав возиться с первыми детьми в течение дня, засиживалась за перепискою. Долго я, боясь вмешиваться в ее имущественные дела, чтобы не быть заподозренным в корыстолюбии, не вмешивался в эту сторону нашей семейной жизни. Но, наконец, Мамочка, которую, как не ездившую по именьям, нередко эксплуатировали арендаторы, и предложил ей мои услуги – по сношениям с ними. Мамочка выдала мне полную доверенность, до права продажи ее имущества включительно, после чего я стал совершать поездки по именьям (в Виленской, Ковенской, отчасти Минской губерний) и вести деловую переписку. Так продолжалось до 1915 года, когда мы, спасаясь от немцев, покинули Северо-Западный край.
Не скажу, чтобы наша семейная жизнь была безоблачна. Хотя «Тетя» Варвара Ивановна Пельская и была прекрасно воспитанная, добрая и благородная старушка, но характер ее был неровный. А при моей вспыльчивости и щепетильности, у меня с нею выходили, иногда, столкновения, зачастую из-за пустяков… Отношения наши, за последнее время жизни с нами «Тети», настолько стали неприятны, несмотря на усилия Мамочки наладить их, что «Тетя», незадолго до своей смерти, переехала от нас к дяде Андрюше, в Карльсберг, где и умерла. До последних дней ее жизни у меня сохранились с нею вполне приличные отношения. Она до конца продолжала уважать меня и ценить, как любящего свою семью семьянина, о чем, при случае, говорила знакомым и писала в письмах к своим друзьям. Быть может, и я не всегда был прав в наших домашних столкновениях. Теперь поздно разбираться в ошибках прошлого. Лучше считать себя виновным в недостатках характера и ошибках по отношению к ближним. Это я сейчас, набрасывая эти строки, и делаю.
Как счастливый сон пролетела моя семейная жизнь. Но разве я, с моим вспыльчивым, упрямым, не всегда уступчивым характером, могу считать себя вполне безукоризненным и чистым, по отношению к нашей чистой, святой, несравненной Мамочке («Мурочке», как вы, дети, ее звали иногда в детстве по известной сказке из кошачьей семейной жизни)?! Хотя я никогда не изменял Мамочке, а всегда благодарно восторженно смотрел на ее семейные подвиги и добродетели, то мне иногда кажется, что, в некоторых случаях я мог бы быть более мягок, уступчив в отношении ее. Но и тут поздно уже раскаиваться: прошлого не воротишь! Неким утешением для меня служит, что наша Мамочка, умирая, при Кате и Тамарочке, благословила меня и благодарила за то семейное счастье, которое я ей дал… Значит, она и меня простила, как в течении всей своей жизни прощала всех тех, кто был в отношениях к ней несправедлив…
Наконец, у нас пошли дети. Первым родился здоровый, полновесный мальчик Гулеша (Сергей – Сережа – Сергуля – Гуля – как мы его все звали).
Родился он в той же квартире, в доме Зайончика, по Мостовой улице Вильны, где мы праздновали свадьбу и жили первый год с лишком.
Не забуду всех тех волнений и ожиданий, которые предшествовали появлению на свет Божий нашего первенца.
Мамочка всегда была глубоко религиозна, не только в узко-православном, церковном духе, чему способствовала ее семейная обстановка и влияние дяди Павла Васильевича Кукольника, матери Марии Алексеевны и «тети» Варвары Ивановны Пельской, но и как настоящая христианка, свято убежденно проводившая в жизнь свою и ближних Евангельские заветы о любви, милосердии, помощи страждущим, прощении врагов и т.д. В жизни моей я не видел другой такой же, истинно-христианской женщины, какой была она. Вместе с тем, в ней было много практичного, делового, главным же образом, уменья уживаться с окружающими, что выработалось в ней с годами под влиянием ее домашней обстановки.
Когда умерла мать ее и Андрюши, оба они были малолетними. Варвара Ивановна Пельская, при всех ее прекрасных качествах, никогда не имевшая детей, понятия не имела в вопросах воспитательного характера. Скоро у нее, на этой почве начались столкновения с опекуном детей – сухим, черствым, практично педантичным П. И. Лего и холодною по натуре женою его Софьей Тимофеевной, составлявшую полную противоположность «тети», женщине, светско-воспитанной, сентиментальной, идеалисткой, непрактичной в жизни, мало знавшей людей, избалованной хорошими средствами и поклонением друзей такого же, как она, типа.
По мере того, как дети подрастали, и пришлось заниматься их образованием (Андрюша стал проходить курс Виленского реального училища, Мамочка училась дома с помощью целого штата учителей и гувернанток), у Андрюши с Тетей стали происходить столкновения на почве домашнего режима. Между детьми — подростками, хоть и близнецами, мало было общего в характерах и привычках. Андрюша часто обижал сестру. Живший в доме престарелый «дедушка» П. В. Кукольник, которого я уже знал угасающим, опустившимся стариком, требовавшим за собою особого ухода, вносил много стеснения в жизнь Андрюши и Мамочки, требовавших уступок и компромиссов. Если Андрюша, обладавший, судя по рассказам лиц, знавших его в детстве и юности, отличался поверхностным, даже, пожалуй, легкомысленным отношением к окружающему, почему и на домашние столкновения смотрел поверхностно, то глубокая, нежная, чуткая натура его сестры страдала от неладов в семейной обстановке. Отсюда в Мамочке, с юности выработалась девушка-дипломат, привыкшая избегать столкновений и уживаться с людьми при всевозможных обстоятельствах путем уступок и христианского терпения. Мамочка рассказывала мне, как ей иногда тяжело жилось при столкновениях между «Тетей» и четой Лего, между «Тетей» и Андрюшей, как трудно бывало примирить враждующие стороны и оставаться в добрых отношениях, чтобы домашняя жизнь не обратилась в ад…
Все это я говорю для того, чтобы объяснить, с какой верой в Бога, с какими практическими приготовлениями Мамочка готовилась к первым родам. Приглашенный акушер отрекомендовал опытную акушерку, которая, посещая Мамочку, время от времени, в период ее беременности, и явилась по моему зову, когда начались первые родовые схватки. Я видел, как, ложась на кровать, которая могла обратиться в смертное ложе, Мамочка усердно молилась, приложившись к любимым ее иконам и положив под подушку тот крест с мощами, который теперь у тебя хранится. Не желая, чтобы я видел ее страдания, Мамочка настояла, чтобы я при родах не присутствовал, а ждал окончания их в соседней комнате, что я исполнил. Проходили часы, а в Мамочкиной комнате царило безмолвие. Изредка выходила ко мне Тетя, чтобы, по поручению страдалицы, успокоить меня заявлением, что все идет нормально. Сколько прошло времени в томительном ожидании – не знаю… Наконец-то раздался голос, совсем мне незнакомый, так странно и дерзновенно прозвучавший из той комнаты, в которой до того царила зловещая, пугавшая так меня тишина, голос моего сына, о благополучном появлении которого на свет Божий объявила мне вышедшая ко мне, с радостным, хотя и измученным лицом, Тетя. Мы обнимались с нею, целовались, плакали. Минут через десять, когда все в спальне было приведено в порядок, меня, наконец, туда впустили, и я увидел Мамочку, слабую, но сиявшую внутренним светом, мне улыбающуюся счастливой улыбкой матери, а возле нее маленькое, краснолицее, сопящее существо – Гулешу, завернутого в пеленки и одеяло.… Надо ли много говорить о том, что мы переживали с Мамочкой в эти минуты…
Гулешу, как и Варюшу, и тебя Мамочка кормила сама. Потом у нее в груди, вероятно, от ушиба, образовалось затвердение. Боясь, что оно может быть признаком болезни рака, Мамочке запретили самой кормить следующих детей, и она нанимала кормилицу, что ее сильно огорчало, так как в кормлении грудью своих детей она находила великое счастье матери.
По разным причинам нам приходилось менять в Вильне квартиры. Главным образом потому, что с рождением детей требовалось увеличение помещения. С рождением Гули мне пришлось уйти из нашей общей спальни и тоже перебраться в особую комнату, обратив ее в рабочий свой кабинет. Благодаря кочевкам из квартиры в квартиру, и следующие дети рождались у нас в разных частях города.
Варюша родилась на Георгиевском проспекте, в небольшом, деревянном, одноэтажном доме Гарина.
На Большой Погулянке, в доме Богданович, родился и умер младенец Боря, о короткой, страдальческой жизни которого я тебе на днях, здесь, в Москве, подробно рассказывал.
Когда мы, после этого, переехали в дом Буйко, на углу Большой Погулянки и Александровского бульвара, то здесь родилась ты, моя дорогая Манюточка, Катя и Тамара. Здесь же умерла Варюша, а ты чуть было не погибла от скарлатины.
Последняя наша Виленская квартира была в доме Мяновской, по Набережной реки Вилии, откуда, в отсутствие семьи, мне, в 1915 году, пришлось спасаться от немцев.
Я также, на днях, подробно рассказал тебе, дружок, об ужасной болезни Мамочки (внематочной беременности), которая чуть было, не свела ее в могилу и о том, как милосердие Божие к нашей семье и опытность врача-акушера Петрашкевича спасли для нас дорогую жизнь Мамочки.
Теперь не могу хорошо припомнить, когда случилась эта болезнь, когда родился Боричка. Следы всех этих семейных переживаний имеются в моих дневниках и переписке, хранящихся в Московском Толстовском музее.
Конечно, появление детей еще более сблизило меня с Мамочкой, которая вся отдалась делу ухода за вами, вашего образования и воспитания.
Если и ранее Мамочка не любила «света», выездов, балов, туалетов, драгоценных украшений, вообще всего того, что Пушкин так удачно назвал в «Евгении Онегине», «ветошью маскарада», то, с появлением Гули, она вся ушла в интересы детской, представлявшей всегда образец порядка, чистоты, гигиенической обстановки.
Мамочке повезло, что при первых детях, она в лице Зоси (Софьи Сталевской) молодой, красивой, энергичной, преданной ей и любившей детей, нашла себе ревностную, чистоплотную, тоже любившую чистоту и порядок помощницу.
Много помогало нам то, что у нас были средства: доходы Мамочки с имений и проценты с денежных билетов, лежавших в банках; мое жалованье, а иногда и гонорар за литературные труды. Тетя тоже вносила в нашу общую, семейную кассу, какую-то сумму, ежемесячно, за ее содержание. Так что, когда, спустя два-три года (а, может быть, и в иной срок) я захворал оплотнением в верхушке легкого, могшим перейти в чахотку, результат перенесенного в бытность мою в Академии тифа, то у нас хватило средств для моей поездке в Крым на осенние месяцы для лечения и, к слову сказать, исцеления.
Лучшей комнатою в наших квартирах всегда считалась детская, так образцово обставленная Мамочкою, что все удивлялись ее порядкам. Мамочка, забывавшая о своих интересах, никогда не имела особых комнат, будуаров, гостиных, приемных, а помещалась вместе с вами, детьми, терпя все неудобства, связанные с подобной обстановкою.
С раннего детства, она ревностная, православная христианка, приучала и вас к молитвам, посещению храмов, исполнению обрядов и т.п. В эту сторону жизни я не вмешивался, предоставив Мамочке делать, что ей было угодно, тем более что сам я, к ее великому огорчению, вскоре после появления Гули и Варюши, стал охладевать к Православию, обрядовой ее стороне, оставаясь лишь, на всю жизнь, верным поклонником красоты православного богослужения и церковных песнопений.
На этой почве – разницы во взглядах на религиозные вопросы – у меня с Мамочкой происходили недоразумения и пререкания, вносившие некоторый разлад в нашу мирную, счастливую, полную довольства, семейную жизнь. Но и тут Мамочка наша осталась верна себе: она оставила меня в покое, перестала упрашивать говеть, исповедоваться, причащаться, молясь Богу, чтобы он привел меня на тот путь, по которому так убежденно шла она к «царствию небесному». Во время постов для меня устраивался особый, скоромный стол. И тут она умела поступаться своими убеждениями, прощать чужие слабости и недостатки. Недаром же, еще при жизни Мамочки, я глядел на нее, как на святую, как на подвижницу, никогда не жившую для себя, а всегда, во всем соблюдавшую интересы ближних, особенно «страждущих и обремененных»… Такой и сейчас она живет, светит и греет в моей душе…
Следует тебе заметить, дорогая Манюточка, что, как среди мамочкиных предков, так и среди предков со стороны моих родителей, женщины, в нравственном, духовном отношениях всегда были выше, чище, замечательнее мужчин. Таковы были, с моей стороны, жена Ивана Степановича Жиркевича Александра Ивановна (рожд. Лаптева), мать его Евфросиния Львовна Жиркевич и другие. Со стороны же Мамочки оставили по себе самые отрадные воспоминания Юлия Алексеевна Кукольник (рожд. Пузыревская) и Мария Алексеевна Снитко (тоже рожд. Пузыревская, мать Мамочки). О доброте этих женщин, особенно Ю.А. Кукольник, в жестокие времена крепостного права, в замечательной памяти Мамочки нашей, сохранились трогательные, назидательные легенды.
В именье Лабардзи, Ковенской губернии, доставшемся Мамочке по наследству, и разделу с братом, доживала свой век, на полном нашем содержании, престарелая «Пани Гавдзилевич», одинокая, нищая старушка, полька, когда-то, вместе с братом, арендовавшая именье, много жившая там, знавшая многих из его прежних владельцев – Кукольников и Пузыревских. В мои, редкие приезды в Лабардзи, эта Гавдзилевич сообщала много фактов, преданий, легенд фамильного характера, не с очень хорошей стороны мужского элемента предков Мамочки, и, напротив, симпатично обрисовавшая характеры и поступки женщин, живших в именье. В этих женских типах я находил некоторые, чудные черты характера и жизни Мамочки.
Когда я женился, мне пришлось познакомиться с рядом бедных стариков и старушек, которых пригревали, опекали и материально поддерживали и Мамочка, и Тетя. Многие из них еще ранее пользовались благотворительным вниманием Кукольников Павла Васильевича и Юлии Алексеевны, и Марии Алексеевны Снитко, твоей бабушки (матери Мамочки). Я назову, хотя бы Клеопатру Александровну Тейнер, престарелого, полуслепого педагога Франца Антоновича Монюшко. С моей стороны вошли в наш «молодой» дом тоже нуждавшиеся, мои мать и бабушка Мария Иосифовна Астафьева, а также Елизавета Густавовна Смецкая. У Мамочки, по Вильне, жило не мало бедных, дальних родственников, которым она помогала материально…
Неудивительно, что, по воскресным дням, в нашу квартиру, собиралась вся эта беднота, вносившая в нашу молодую, светлую, довольную жизнь, свои жалобы на судьбу, нужды, недуги. Все это обожало Мамочку, так как она всегда любила утешать, чем могла, именно таких обездоленных, нуждающихся, «труждающих и обремененных». Сходились обыкновенно к обеду, оставаясь до позднего вечера, когда подавался чай с холодными закусками. Надо заметить, что у нашей Мамочки наблюдалось замечательное уменье разгадывать нужды, потребности, привычки ближних с тем, чтобы их, деликатно, любовно, удовлетворять. Тут у нее проявлялись удивительное внимание, настойчивость, самопожертвование и изобретательность.
Я бывал в ее доме, когда она была еще подрастающей девушкою. Меня всегда умиляло то уменье, та деликатность, то внимание, с которым она ухаживала за престарелым, полуслепым, плохо уже слышавшим «дедушкой» П. В. Кукольником, иногда, по целым часам, с помощью слуховой трубы, развлекая его интересным для него чтением книг и газет. При этом ей приходилось усиливать голос, надрывать грудь повторением того, что старик не дослушал…
Тоже иногда происходило и у нас, в доме, с разными, немощными старичками и старушками, которых по вечерам Мамочка развлекала чтением и беседой (в чем, надо признаться, помогала ей и Тетя, тоже любившая и опекавшая подобных посетителей). Изучив вкусы некоторых старичков и старушек, Мамочка, в желанье угодить убогим гостям, чем-либо порадовать их, заказывала к обеду особые, лакомые для них, блюда…
Накануне праздников Св. Пасхи, Рождества, Нового года, именин и дней рождений наших обычных, воскресных гостей, Мамочка на меня возлагала обязанность разносить и развозить по городу гостинцы, деньги и праздничную провизию; при чем только тут я узнавал иногда впервые о новых бедняках, которым Мамочка помогала, не требуя благодарностей. Кстати, незадолго до смерти, чувствуя ее приближение, Мамочка, уже не имея сил вставать с кровати, пересмотрела всю, уцелевшую, свою переписку, и уничтожила те письма и документы, которые свидетельствовали бы о ее широкой благотворительности, в чем сама мне, улыбаясь, созналась.
Я чрезвычайно любил воскресные вечера, когда наша, парадно обставленная, полная предметов старины и искусства, квартира, наполнялась бедняками, жаждавшими и пожить по праздничному, и отдохнуть, порадоваться нашему семейному счастью.
Особенно любила бывать у нас бабушка моя Мария Иосифовна Астафьева, обожавшая меня с детства, влюбленная и в Мамочку, и в нашего первенца Гулешу. Старушка, приходя к нам, переобувалась, надевала парадную накидку на голову, вообще приводила себя в праздничный вид, и только после этого входила в гостиную, где могла встретиться с лицами из высшего общества, у нас по праздникам бывавшими. Она не хотела уронить свое достоинство и поставить меня и Мамочку в неловкое положение перед чужими своим бедным костюмом. Для бабушки, зная ее вкусы, Мамочка к обеду готовила рыбное блюдо, а к чаю подавала любимые ее закуски и сласти.
Те же старички и старушки, на Рождество, сходились у нас на детских елках. Таких елок Мамочка устраивала обыкновенно две: одну для детей наших знакомых, другую – для детей бедняков, живших у нас, на дворе, или в соседских домах. Устраивалось это не в целях разделять детей по их положению и достатку их родителей, а для того, чтобы дети бедняков чувствовали себя свободно, непринужденно. Конечно, на елках, кроме музыки, танцев, игр и угощений, раздавались подарочки, соответствовавшие нуждам и вкусам детворы. В отношении подарков Мамочка не забывала и тех старичков и старушек, которые присутствовали на елках, любуясь детской радостью: и для каждого из них, на елке, висел, или лежал у подножья праздничного дерева особый подарок, с чем-либо нужным в домашней жизни, а иногда и с деньгами. Не забывалась и наша прислуга, всегда щедро одаривавшаяся Мамочкою к дням больших праздников…
Вот в какой теплой, светлой, духовно-ароматной атмосфере любви росла ты, дорогая моя Манюточка, твой брат и сестры! Неудивительно, что и вы от Мамочки унаследовали светлые головки, добрые сердечки и жалость ко всему, что страдает и гибнет в этом скучном, суетном, эгоистично-себялюбивом мире… Этими христианскими настроениями и навыками вы обязаны Мамочке, которая, умирая, неоднократно, повторяла вам завет Евангельский: «Детки мои! Любите друг друга!..»
Не думай, дорогая Манюточка, что Мамочка наша принадлежала к тем миллионершам-барыням, которым ничего не стоило благотворить беднякам, уделяя им крохи от своих колоссальных богатств. Мне кажется, что тебе будет интересно знать о том, что из себя представляло состояние Мамочки, когда она выходила за меня замуж и вскоре после этого.
Отец Мамочки – Константин Михайлович Снитко, человек предприимчивый, благодаря наследству и уменью устраивать свои дела, связям и находчивости, составил себе большое состояние, главным образом, в именьях, их хозяйственном инвентаре и обстановке, унаследовав кое-что и при женитьбе на Марии Алексеевне Пузыревской, не бесприданнице. Но он вел слишком открытую, светскую жизнь, и в Вильне, и в именьях, куда выезжал на время, любил не отказывать себе ни в чем, имел на стороне, в тайне от болезненной жены, сердечные привязанности, чванился своим положением предводителя дворянства, не уклонялся от кутежей, приемов и т.п. Все считали его богатым. Но когда он неожиданно и преждевременно от воспаления легких скончался в Вильне, оставив жену с двумя сиротами-близнецами на руках, то обнаружились крупные долги покойного, настолько значительные и неотложные, что поднят был даже, в родственном кругу вопрос о том, что следует в пользу заимодавцев отказаться от наследства. Мария Алексеевна Снитко, по натуре тепличное <существо. – Н. Ж. >, не знавшее жизни и людей, при жизни мужа не посвящавшаяся в его денежные, имущественные дела, оставшись вдовою на скудной, правительственной пенсии, в первое время совершенно растерялась, <оказавшись. – Н.Ж.> лицом к лицу с действительностью, то есть с отсутствием средств, для продолжения существования на прежних началах. Но тут ей повезло на поддержку группы друзей ее покойного мужа, помещиков, соседей по именьям, обязанным когда-то влиятельному предводителю дворянства, Константину Михайловичу. Они взяли в свои руки дела вдовы его, выяснили наличность земель, инвентаря, обстановки, долгов и умело, серьезно подвели итоги. В конце концов, оказалось, что если продать все имущество, находившееся в городе и по именьям (экипажи, посуду, скот, земледельческие орудия, запасы зерна и других припасов и материалов для платья, белья и т.п.), то, уговорив некоторых, наиболее настойчивых, упрямых векселедержателей – не настаивать на немедленной уплате долгов, можно спасти именья с наиболее нужным хозяйственным инвентарем. Так группа друзей покойного Константина Михайловича Снитко, во главе с помещиком Свидзинским, и поступила. В результате удалось уладить кризис, ввести Марию Алексеевну Снитко в права наследства, и сделать ее и ее сирот обладательницей довольно крупного, хотя и разоренного состояния. При том положении, в каком находились дела М. А. Снитко, после смерти ее мужа, нечего было и думать о каком либо крупном, планомерном хозяйстве, найме особого, опытного управляющего всеми именьями, увеличении доходов с последних. Как и при Константине Михайловиче, именья, кажется, кроме Карльсберга, где он часть года жил, находились в аренде. Тот же порядок пришлось продолжить и после его смерти, с той лишь разницей, что именья, лишенные крупного инвентаря, прежних ценностей, стали приносить и меньше доходов. С годами, хозяйственная разруха по именьям, охватившая значительную площадь земли в 5-6 тысяч десятин, с лесами, лугами, хозяйственными постройками, только углублялась, так как именья приходили все в больший упадок, и доходы с них все уменьшались.
По духовному завещанию, в обход закона, Мамочка и дядя Андрюша должны были получить в наследство по равной части.
Когда я женился на Мамочке, то застал оставшееся после Марии Алексеевны имущество, в общем, еще нераздельном владении Мамочки и дяди Андрюши. Не были поделены между ними обстановка, золото, серебро, бриллианты, а также капитал небольшой, находившийся в банках в процентных бумагах. Доходы получались сообща, а всеми именьями заведовал дядя Андрюша, сам еще учившийся и живший почти безвыездно в Риге. Это, в свою очередь, еще более осложняло имущественные дела Мамочки. Дядя Андрюша, наезжавший в Карльсберг, попал, по неопытности, в лапы пройдохи, заведовавшего имением Карльсберг, Сольца, опутавшего его векселями и разорявшего последнее, что в именье оставалось. Только вмешательство молодого Свидзинского (сына того Свидзинского, который выручил когда-то Марию Алексеевну) удалось отобрать от Сольца векселя, а самого его с его родней выгнать, наконец, из именья…
В первые годы после женитьбы, до раздела между Мамочкой и ее братом, я из деликатности, чтобы меня не заподозрили в корыстолюбивых целях, уклонялся от вмешательства в имущественные дела Мамочки и дяди Андрюши. Только потом, видя, что интересы Мамочки (а, значит, и ваши, ее детей) страдают, я стал понемногу сам вникать в положение некоторых имений, заезжать туда на ревизию, и входить в сношения с арендаторами (хотя все это и было не всегда приятно Мамочке, она боялась обижать брата, в честность и добрые намерения которого и я никогда не сомневался).
Пришлось, наконец, приступить к разделу всего имущества по завещанию. Я и тут, придерживаясь моей политики невмешательства, держал себя в стороне от вопроса. В результате, группа знакомых дяди Андрюши помещиков, которым Мамочка бесконтрольно доверила свои интересы, лучшее, благоустроенное именье «Карльсберг» с домом, постройками, прекрасными лесами, признали нужным отдать дяде Андрюше, Мамочке же оставили мелкие, разбросанные на сотни верст друг от друга, при том в разных губерниях, именьица и клочки земли. Мамочка (я уверен в том) была рада, что лучшая часть досталась ее брату (и его семье – в будущем).
При разделе золотых, серебряных и бриллиантовых вещей Мамочка поступила также: все лучшее отдала дяди Андрюше, беспокоясь лишь о том, чтобы не обидеть его и его семью. Зная Мамочкины взгляды и настроения, я во все это уже и не вмешивался, чтобы не огорчать и не тревожить ее.
Мне до сих пор непонятно, как добрый, благородный, немало услуг нам оказавший, по возне с нашими именьями, дядя Андрюша соглашался на подобные неправильности при разделе имущества между ним и сестрою… Не мог же он не знать, какие доходы с наших владений получаем мы в сравнении с тем, что приносит ему его Карльсберг с фольварками!… Но Бог с ним!… Сам он потом лишился всего, перенес и голод, и холод, и всяческую нужду, лишился на войне любимого сына – наследника (Севу) и умер, одинокий, на чужбине, в нищете…
Из всего же сказанного мною выше, видно, что хотя мы с Мамочкой и имели состояние, но не такое уж большое, чтобы жить широко, в роскоши, ни в чем себе не отказывая, не нуждаясь в поддержке от моей службы… Мне же приходилось, поддерживать материально бабушку до самой смерти, и мать с сестрою довольно долго.
Мамочка («Мурочка») никогда не отказывала мне в денежной поддержке на издание моих сочинений, на поездки в Петербург, на Кавказ для лечения. Не мало денег своих она вложила в мои расходы по облегчению участи арестантов и раненых жертв войны. Наши кошельки никогда не были закрыты, когда вопрос шел о выдаче субсидий благотворительным учреждениям. Мурочка не жалела для моих знакомых в выдаче им крупных вспомоществований, когда дело касалось их участи. Так было ею поступлено по отношению к бывшему полковнику Аристову, во время службы на железной дороге, растратившему крупную сумму вверенных ему по службе денег, и редактору Солоневичу, посаженного в тюрьму за невзнос наложенного на него штрафа. Мурочка обоих их выручила: один избавился от суда, другого выпустили из темницы.
Сейчас мне отрадно вспомнить, что наша Мамочка была любима моею роднею, особенно моими матерью и бабушкой, жившими в Вильне, и что я, в свою очередь был в самых хороших отношениях с дядей Андрюшей и его семейством… И тут, связующим всех нас звеном была «миротворица» Мамочка с ее удивительным тактом, уступчивостью и умением налаживать добрые отношения с самыми, казалось бы, неуживчивыми, характерами. А к таким натурам, несмотря на все ее выдающиеся нравственные и умственные качества, принадлежала моя покойная мать – Варвара Александровна Жиркевич.
Упомянув мою мать, я вспомнил, что почти ничего не сообщил тебе, дружок, о тех моих родных, по моей семье, с которыми я свел, в Вильне, Мамочку, когда на ней женился. Это – пробел, благодаря которому кое-что тебе будет непонятно из моего семейного прошлого. А потому, прежде чем продолжать повествование о моей личной семейной жизни, расскажу тебе о моих близких (попутно же и о моем детстве), хотя по многом тяжелым воспоминаниям, мне это и не совсем приятно делать… Ты увидишь почему.
Отец мой Владимир Иванович, сын губернатора Ивана Степановича Жиркевича, воспитывался в Полоцком кадетском корпусе. Отец его, а мой дед, жил тогда с семьей, в отставке, в крайней нужде, в г. Полоцке, где и скончался. Он, по рассказам его сестры Зинаиды Ивановны Ган, был мальчик способный, особенно по математике, но шалун и сходился с дурными товарищами, которые рано научили его пить тайно, курить и развратничать. Несмотря на бывшее положение его отца и связи его, благодаря дурному поведению, его выпустили в артиллерию. Кочуя с батареей по России, он очутился в г. Люцине, Витебской губернии, где служил начальником инвалидной (или гарнизонной) команды мой дед по матери, Александр Иванович Астафьев, в чине майора. Семья его состояла из жены Марии Иосифовны (Осиповны), и бойкой, способной на всякие проказы, дочери – Вари, впоследствии моей матери. Отец мой влюбился в девушку, будучи сам беден и, кажется, не получив за моею матерью приданого. В ноябре 1857 года, в Люцине, у них родился первый ребенок Саша – я, которого в честь дедушки Александра Ивановича, окрестили Александром. После моего рождения дедушка скоро умер. Мама и бабушка мне постоянно рассказывали, что это был честный, довольно крутого нрава, служака, влюбленный в меня, своего внука, которого и на смертном одре, баловал гостинцами, всегда лежавшими у него под подушкою. Сам же я дедушку совершенно не помню. Скоро батарея, в которой служил мой отец, ушла из Люцина и стала кочевать по России. В семье нашей родился еще мальчик Ваня, мой младший брат.
Надо тебе заметить, что бабушка Марья Иосифовна, жившая с детства с отцом и матерью среди степей (чуть ли не оренбургских) далеко от культурных центров, почти не получила никакого образования. До конца жизни она едва могла читать по складам и безграмотно писала. После ее смерти сохранился ее дневник, который она, одно время вела, живя в Вильне. Он находится в наших фамильных бумагах, оставленных мною в Вильне. Это – очень трогательный семейный документ, характеризующий бабашку, как женщину необразованную, простую, наивную, но в меня, в нашу Мамочку, в Гулешу влюбленную. Я хотел бы, чтобы ты, когда-либо прочла эту тетрадь, сохранив ее для твоего потомства, если оно у тебя будет.
Мать моя, за не имением в г. Люцине женского учебного заведения, воспитывалась в частном пансионе польки Хлопицкой, где вместе с польками были и русские девочки, враждовавшие под «командой» мамы с польками, за что мама была прозвана последними в насмешку «казаком». Все преподавание велось в пансионе на французском языке, которого мама, поступая туда, не знала. Но у нее, по ее собственному признанию были хорошие способности, и она скоро, не хуже других, болтала, читала и писала по-французски (я помню маму в детстве читавшую еще французские романы. Под старость, за отсутствием практики, она почти совсем забыла французский язык).
Бабушка любила рассказывать мне и подраставшему Гулеше о своей жизни, в степи, в крепости, у своего отца, коменданта крепости полковника Новгородцева, о походах с мужем по степи с войсками, в которых он служил в тылу боевого отряда, с удобствами и провизией, в собственной коляске, на собственных лошадях. Об охотах мужа на перепелов в степи (по вабику – особой дудочке, приманивавшей птицу). Одно время, после смерти мужа, бабушка жила отдельно, в качестве «интересной вдову, со средствами, за которой многие безрезультатно ухаживали», как она выражалась. Потом, в Бессарабии, где стояла батарея моего отца (в Бендерах или Тирасполе), она переехала к нам и более с нами, почти до самой смерти своей не расставалась.
В моей поэме «Картинки детства» я описал довольно верно и бабушку, и ее появление в нашем доме, вообще многие типы и сцены, связанные с моим детством. Два издания этой поэмы, по одному экземпляру, вместе с другими моими печатными произведениями, хранятся в нашем фамильном архиве, в Ульяновске.
Как только начинаю я помнить себя, все мои воспоминания связываются у меня с личностью моей баловницы – покровительницы бабушки и с денщиком моего отца (когда служили в батарее, в Бессарабии) солдатом Корнеем, тоже описанным благодарно в упомянутой выше поэме. Он был у нас не только денщик, но друг дома, моя и брата моего нянька, повар, прачка, все что угодно. Родители мои, существовавшие лишь на скромное офицерское жалованье моего отца, жили скромно, обходились без посторонней прислуги. К тому же у отца, к тому времени стал развиваться порок его – пьянство, который и свел его преждевременно в могилу.
Мне не хочется осуждать отца, но не могу и умолчать о том, что, благодаря этому отцовскому недостатку, жизнь нашей семьи была всегда полна всякого рода неприятностями, раздорами, осложнениями. Я и сейчас вспоминая об отце, – человеке честном, по своему любившем семью, способном математике, – и не могу найти в себе благодарного к нему отношения. Любя мать, я даже питал к нему, по временам, из-за страдающей от семейных неурядиц матери, враждебное настроение.
Помню, что из Бессарабии, по выходе отца в отставку, мы перебрались в Петербург, где отцу, через родных, удалось получить скромное место полицейского офицера (во времена градоначальства генерал-адъютанта Трепова). Отец был на хорошем счету, поневоле, из боязни быть прогнанным со службы, почти совсем перестал пить. Но жили мы бедно, вечно нуждаясь, не держа прислуги. А тут, как на беду, родились у мамы близнецы – Коля и Володя, которых она сама кормила грудью и которые через год, один за другим, умерли. Жили мы у Обуховского моста и на Царскосельском проспекте. Уход за близнецами принудил нашу мать совсем забросить нас, старших детей: мы росли на дворах, с уличными мальчишками, научились от них сквернословить и т.д. Из моих петербургских воспоминаний я сохранил: задыхание от крупа (от которого спас меня д-р Я. Б. Бретцель – тот самый, который в бытность мою в Академии, не дал мне умереть, заброшенному, в меблированных комнатах, от тифа) и первые музыкальные впечатления. Мы жили на Царскосельском проспекте в доме богатой купчихе на втором этаже. Сын ее прекрасно играл на рояле. И я любил слушать его игру, лежа, приложив ухо к полу, при чем, сам не зная почему, плакал от умиления.
С помощью родных, отцу моему удалось получить место помощника исправника в провинции. Взяв с собою меня и брата, оставив прочих членов нашей семьи в Петербурге, он отправился в Вильну. Помню, что он служил помощником исправника в Соколке и Кобрине (Гродненской губернии), но в котором городе раньше, а в каком позже, не помню, как не помню, где занимались со мною моим образованием первые мои учителя Каченовский и Афанасий Иванович Ельцов, впоследствии священник, которого я знал, когда он был стариком.
В Кобрине отец с семьею жил за городом, в деревянном, двухэтажном особняке с фруктовым садом, принадлежавшем Говену. Отец счастливо играл в карты, почему мы жили, открыто, принимали гостей, устраивали у себя балы, имели, одно время собственные коляску и серых лошадей, выигранных отцом в карты у помещика, а мать моя, обратившись в светскую барыню, выезжала на балы (она прекрасно танцевала) и ездила для развлечения в Петербург. Но так как отец не оставлял пьянства, то Гродненский губернатор Скворцов, его и других чиновников, предававшихся картежу и пьянству, разогнал со службы, и отец остался без места. Однако, опять с помощью родных, которые, зная его порок, сторонились от него, хотя в трудные минуты жизни, его и выручали, отцу удалось получить место лесничего в Виленской губернии. Мы переехали в г. Дисну. Оттуда отец был перемещен в другие лесничества губернии – Трокское и Лидское. Лесничим предоставлялись казенные фермы с домами, постройками, садами и участками огородной земли и сенокосов. В Трокском уезде отец с матерью жил в Бечканах, в Лидском – на ферме недалеко от Лиды.
В это время меня и брата Ваню отдали в Виленское реальное училище. С нами в Вильну, переехала бабушка, открывшая ученическую квартиру, на которой мы и жили с другими учениками училища.
В реальном училище, согласно программе подобного рода учебных заведений, обращалось особое внимание на математику, к которой я не только не имел способностей, но питал отвращение, в противоположность брату Ване, от отца, унаследовавшего математические способности. Это не помешало маме (отец мой в вопросы о нашем образовании и воспитании никогда не вмешивался, предоставив решение их моей матери) отдать меня и брата в реальное училище, где я, во время прохождения курса, хромал по математике, не смотря на репетиторов, успевая в общих предметах и по языкам. В результате вышло то, что я оставался по два года в одних и тех же классах, отстал от брата и едва-едва окончил реальное училище. Тут дороги наши разошлись: брат поступил в Павловское военное училище, которое прекрасно и окончил, а я на старший курс Виленского пехотного юнкерского училища. Оба мы потом, одно время, служили в одной и той же 27 пехотной дивизии, но в разных полках: он – в 105 полку Оренбургском, я – в 108 полку Саратовском. Затем, мы опять сошлись с ним на службе по военно-судебному ведомству, только в разных округах (он был чиновником, я – офицером). Недолго мы служили одновременно в Виленском военно-окружном суде.
Будучи реалистами, я и брат с бабушкою ездили на летние каникулы к родителям, у которых родилась моя сестра Маша. Когда удалось устроить ее в Петербургский Павловский институт, на казенный счет через Н. Н. Герарда, бывшего тогда Главноуправляющим Канцелярией Его Величества по учреждениям Императрицы Марии, а я и брат, в качестве офицеров, встали на ноги; мать, жившая с отцом и бабушкою на ферме около г. Лиды (в 100 верстах от Вильны, тогда железная дорога туда еще не проходила), воспользовавшись отъездом мужа для обзора лесничеств, бросила его и переехала в Петербург, чтобы быть ближе к дочери. Тогда отец, оставшись в деревне на ферме одиноким, уволенный со службы, переехал в Вильну. Вскоре туда же съехались я, брат, бабушка, а, затем, и мать моя с Машей, когда та окончила институт. Одно время бабушка жила с мамой и Машей в одном доме. Потом они разъехались по квартирам. Маша вышла неудачно замуж и, бросив мужа, вернулась к маме, в Вильну. Ко времени моей свадьбы она еще училась в Павловском институте, где мы ее, в качестве молодоженов, и посещали. Таким образом, вся семья, будучи в одном городе, жила вразброд, при чем между некоторыми членами ее были даже неприязненные отношения. Отец мой продолжал пить еще усиленнее, появлением в пьяном виде на улицах нас всех (особенно меня, занимавшего уже тогда в городе видное служебное и общественное положение) компрометировал. Хотя он, по большим праздникам, в мундире, при орденах, как бы с официальным визитом, появлялся в моем доме, но мы с Мамочкой его боялись и невольно сторонились… Бывали у нас часто мама, бабушка и Маша. Все они любили и ее, и вас, детей…
Потом смерть стала всех умиротворять и примирять. Папа скончался от кровоизлияния в мозг во время рвоты при опьянении. Мы пожалели его и опустили равнодушно в могилу. Умерла и бабушка, всеми нами любимая и оплакиваемая, от воспаления легких, – умерла скоропостижно, от паралича сердца, сама не сознавая, что умирает, в приготовлениях к наступавшей Пасхе. Мечтою старушки всегда было умереть на Пасху (во время пасхальной заутрени она обыкновенно исповедовалась и причащалась). Смерть бабушки случилась до Пасхи. Мы спешили похоронить ее до праздника, когда похороны не разрешались. Тело поставили в часовню при церкви Виленского военного госпиталя (бабушка, живя на Антоколе, любила ходить в эту церковь, хотя исповедовалась и причащалась всегда в Св. Духовом монастыре). И точно, во исполнение ее желания, чтобы у ее гроба раздавались пасхальные песнопения, пока тело ее стояло в часовне, в соседнем помещении, церковный хор, готовясь к пасхальным заутрене и обедне, разучивал эти пасхальные песнопения. Это совпало с весною. Вообще похороны бабушки были удивительно трогательны и знаменательны.
Вот тебе, Манюточка, кое-какие картинки из отношений Мамочки к моим родным. С братом моим Ваней у нее были тоже самые хорошие отношения. Когда он переселился в Вильну (будучи в отставке), то жил, одно время, в деревянном домике, на Антоколе, который приобрела себе, на скудные свои сбережения моя мать. Приемная дочь его Оля (теперь Ольга Ивановна Жиркевич), во время ее серьезной болезни, жила у нас, пользуясь уходом и попечительством Мамочки. Брат взял Олю из Виленского детского приюта подкидышей «Иисуса Младенца», и еще маленькой усыновил ее. Она до зрелого возраста ничего не подозревала о своем происхождении, тем более, что и мы все относились к ней, как к родной, не делая различия между ею и нашими детьми.
Брат мой Ваня, во многих отношениях, был выдающимся человеком, даже с дарованиями (математические способности, рисование и др.). Он мог бы пойти далеко, если бы не своеобразное отношение его к жизни. Будучи добр, благороден и великодушен, он сошелся с немкой Идой Шадауской, в каком то притоне разврата и, сжалившись над чистой еще девушкой, которой предстояла позорная жизнь, взял ее из публичного дома к себе и занялся ее спасением и образованием. Я нарочно назвал имя и отчество этой женщины, так как, хотя брат на ней и не женился, она обладала такими высокими нравственными качествами, так любила брата и так была предана ему, что я, мама и бабушка (а обе они были стародавних взглядов на брак, сожительство и нравственность) любили эту, некрасивую, необразованную немку и уважали ее, искренно оплакав ее, когда она умерла в Вильне, от черной оспы… После ее смерти брат увлекся другой особой, уже менее достойной, под тем предлогом, что подраставшей Оле нужна была женщина, которая заменяла бы ей мать. Этого, к сожалению, не случилось. Не мало горя эта сожительница (я даже до сих пор не знаю, был ли он женат на ней: они долго жили далеко от нас, в Ташкенте, где брат служил в военно-судебном ведомстве секретарем военно-окружного суда). Потом и она умерла. Ее похоронили, тоже на Лютеранском кладбище, рядом с Идой Шадауской, недалеко от нашего семейного могильника. После ее смерти брат всецело отдался образованию и воспитанию Оли, которую, и воспитал своеобразно, по своим взглядам и вкусам, вытравив из нее религию, любовь к искусству, насадив в ней скептицизм, насмешливо-критическое отношение к людям, недоверчивость к ним и холодную, рассудочную практичность…
Сейчас передо мною встает не мало отдельных отрывков из эпохи моих детства и юности, которые я не могу связать ни между собою, ни с общим течением моей жизни, ни точно установить, когда все это произошло…
…Вспоминается моя опасная моя болезнь в детстве… У меня сильный жар. Я брежу: мне мерещатся разные ужасы. Напрасно мама, бабушка и денщик Корней стараются меня успокоить… Наконец, решено мне поставить за ушами пиявки… При виде этих черных, извивающихся червяков, я прихожу в отчаяние, начинаю непосильную борьбу с окружающими… Меня держат за руки… Пиявки вонзаются в мое тело. Я дико вскрикиваю и теряю сознание… Когда прихожу в себя, мне говорят, что я три недели был без чувств, что только «по молитвам, Бог вернул мне жизнь…». У меня – волчий аппетит, но меня держат на диете, давая, по несколько раз в день, то немного желе (рюмочку), то несколько крупинок вареного риса. Я умоляю дать мне еще, ссылаясь на нестерпимый голод. А мама и бабушка прячутся от меня, чтобы я не стал просить их о пище…
…Мы всею семьей переезжаем «на долгих». У нас свой экипаж; лошадей же перепрягают на станциях… На козлах сидит не Корней, а другой денщик. Вдруг, на опушке леса, появляется огромная волчица. У нее отвисли соски. Она идет безбоязненно, шагах в 50-ти, от нас, параллельно дороге, по которой мы едем. Денщик берет у кучера кнут и хочет, соскочив, побежать на зверя. Испуганная его криком, волчица оскаливает зубы и, свернув, не спеша, скрывается в кустах опушки. Проехав несколько верст, мы останавливаемся у телеграфного столба, на котором висит надпись, гласящая, что тот, кто испортит телеграфную проволоку, будет на этом столбе повешен… Отец идет с заряженным револьвером в кобуре. Нам, маленьким детям, не объясняют причин такой предосторожности. Много лет спустя мне рассказывают, что мы тогда въезжали в пределы Северо-западного края, вскоре после усмирения польского восстания 1863 года, когда на дорогах не всегда было безопасно. Отец, мне кажется в минуты, когда держит на виду своей револьвер каким-то героем…
…Я в реальном училище. На выпускном акте, в присутствии многочисленной, блестящей публики, мне с успехом, при одобрениях, приходится читать на другом акте снова стихотворение «Пир Петра Великого». В первых рядах восседает генерал-губернатор А.Л. Потапов, архиерей, попечитель учебного округа и другие сановники. Наконец, по списку, вызывают меня. Я выхожу, и только что хочу разинуть рот, чтобы начать декламировать стихотворение, как, вопреки совета учителя С.В. Шолковича, не смотреть на публику, а делать «свое дело», взглядываю на Потапова и вижу его взор, через pince-nez на меня выжидательно уставленный. Это так смущает меня, что я, на первых же словах, начинаю запинаться, врать и …умолкаю. Из рядов мне подсказывают… Я умолкаю раз, другой… Наконец, пытки кончены, я хочу уходить, когда меня подзывает к себе «владыка» и, видимо, желая ободрить, начинает расспрашивать о каких «учителях» Петра Великого в стихотворении говорится. Я, сквозь слезы, говорю: «….шведах!» Но архиерей мягко говорит: «Нет…Нет…». Наконец, меня отпускают… Я убегаю домой, к бабушке и неутешно рыдаю (мне и теперь кажется, что, сказав о «шведах», я был прав).
…Я, брат и еще несколько реалистов, в жаркий летний день, заходим на стрельбище (в окрестностях Вильны, называемых «Железною хаткой»), которое содержит какой-то немец, начинаем стрелять в цель и, вспомнив, что у нас нет ни копейки в кармане, воспользовавшись <2 слова нрзб> немца, бросив ружья, разбегаемся с хохотом.. В след нам несется яростное: «Мошенник! Я буду вам стреляйть на голова!» А мы, как ветер, мчимся, врассыпную, по сторонам.
…В те дни, мама нас сама учила грамоте… Во время занятий, я, несмотря на грозные оклики, развлекаюсь игрою с котенком. Вышедшая из себя мама хватает ни в чем неповинного зверька и выбрасывает его в окно (дело было летом, в нижнем этаже того дома, где мы жили). Я прихожу от такого поступка в дикое отчаяние. Со мною делается истерика. Меня душат спазмы. Так что перепуганная мама спешит отпаивать меня водою с валерьяновыми каплями…
…В Вильне, по Казимировской площади, во время ежегодной ярмарки, бежит еврей. А в него летит ряд булыжников, выломанных из мостовой, бросаемых подростками-христианами… Камни пролетают мимо… Я чувствую, что мне надо было бы вступиться за преследуемого. Из боязни я этого не делаю. И потом мне так делается стыдно…
…«Не хочешь ли увидеть свой портрет?» спрашивает меня, с лукавой улыбкой, мой младший брат Ваня. Я, не подозревая ловушки, по его предложенью, дую в какую-то жестянку, из которой в лицо мне вылетает куча сажи… Я, весь перепачканный, мчусь за обидчиком… А его уже и след простыл…
…Мы (реалисты) едем на каникулы, к родителям, с бабушкою в г. Лиду. Ею нанята еврейская, крытая холстом, фура, запряженная парою кляч. Неудивительно, что мы тащимся сто верст с остановками у постоялых дворов, и в виду разговоров нашего возницы со встречными евреями, около двух суток. Бабушка на дорогу напекает много вкусных пирожков с мясом и вареньем. У нее про запас имеется немало и другой провизии. По дороге она начинает говорить, что пожалуется на нас, по приезде, нашей матери, сообщив ей о наших проказах. Так как начинается дождь, то мы, в отместку за такое обращения, выдвигаем бабушку на дождь из фуры, сами же прячемся за ее спину…
…Я, в детстве, большой лакомка. Когда мама варит варенье – я всегда верчусь около нее в ожидании пенки. Сейчас она варит сливы и, не давая мне ничего, бросает подгоревшие в тазу сливы в горшок с мочою… Улучив минуту, я вытаскиваю из горшка эти сливы, и, без всякой брезгливости, их съедаю. Вернувшаяся мама, не найдя в горшке подгоревших слив, производит расследование. Но у меня губы покрыты налетом пригоревших слив. Все, к смущению моему и общему смеху присутствующих, сейчас же обнаруживается…
…Мы гостим у сестры отца Зинаиды Ивановны Ган, в Полоцке, пока отец устраивается на новом месте службы. Мои двоюродные братья Леша и Володя, учащиеся в Полоцком кадетском корпусе, водят нас на плац и знакомят нас с товарищами — кадетами. Чего-чего только у них нет – у этих шалунов в мундирчиках! Дрессированная ручная мышка, сидящая в рукавах мундиров или за пазухой – одна чего стоит. Тетя очень радушно нас принимает. У мамы с нею не выходит никаких конфликтов (как это бывало у нас, из-за Женички), когда она у нас гостила летом. Нам на завтрак даются вкусные ломти хлеба, намазанные маслом и густо посыпанные зеленым сыром: просто объеденье! Все пальчики оближешь! Идут приготовления к Пасхе: красятся яйца. Так всюду вкусно пахнет, повсюду столько аппетитных вещей, что трудно оторваться от стола… Володя выпрашивает себе одно крутое яйцо, съедает белок и, оставив желток, куда-то уходит. Возвращается, желтка нет: его, по рассеянности съела Зинаида Ивановна. Тогда он начинает приставать к ней, на все лады плаксиво повторяя: «А где мой желточек?!..А где мой желточек?!» Это выводит, наконец, Зинаиду Ивановну из себя. Схватив Володю одной рукою за руку, она начинает хлопать его, в такт приговаривая: «А вот твой желточек! А вот твой желточек!!»
…Какой соблазнительный, вызывающий голос у мороженщика «Пашки»!.. Бабушкина ученическая квартира помещается на Георгиевском проспекте. Весной, по вечерам, когда мы все высыпаем на крыльцо, чтобы поболтать на свежем воздухе и попеть, для удовольствия бабушки, русские хоровые песни, голос приближающегося Пашки заставляет нас мысленно подвести итоги наличным финансам… Увы! Ни у кого их почти нет. Одна надежда, что всех угостит мороженным, на свой счет, растроганная пением бабушка. Впрочем, Пашка не прочь отпустить нам свой «товар» в кредит, при чем мы ведем счет таких долгов, записывая их карандашом на стене крыльца. В крайности, можно продать учебники или даже тельные (крестильные) крестики, сказав родным, что потеряли их… Пашка знает наши слабости и готов подождать в расчете на нашу честность… Недаром бабушка, заслышав на улице его вызывающий, задорный крик, говорит: «Вот идет ваша продувная бестия!..»
…Мама, отдав меня и брата в училище, перед отъездом заходит в так называвшийся «Литературный переулок» к книгопродавцу-библиотекарю, старому еврею Стракуну и, заплатив ему деньги, просит, в ее отсутствие, давать нам для чтения «только путешествия». Приехав же в Вильну через некоторое время, она находит у меня взятую от Стракуна книгу «Путешествие по морю житейскому» – роман, совершенно неподходящий к нашему возрасту. Захватив книгу, она спешит к Стракуну и упрекает его в том, что он не исполняет своего обещания – давать нам читать только путешествия… Стракун, с невозмутимым видом перечитывает заглавие и говорит: «Да ведь это же и есть путешествие!.. Чего вам от меня надо?!»
…Я, юноша, нахожусь в том состоянии духа, когда в человеке определяется характер, и намечаются его надежды на будущее. Наступает неудовлетворенность. Надвигаются сомнения. И вот, в 15-16 лет, мне хочется умереть, но умереть так красиво, эффектно, чтобы все меня пожалели у гроба, чтобы раскаялись в недостаточном ко мне внимании и любви… Я намечаю себе и смерть – в виде чахотки. Но я полон сил и здоровья! По-видимому мне суждено долго еще жить и страдать… И вот я, зимою, открываю перед форточкою грудь, и чаю в надежде простудиться, захватить воспаление легких, а там и желаемую чахотку… Ничто не помогает! Я – живу и даже начинаю бояться смерти! Я отдал дань наступающей молодости…
…В раннем детстве мама, я и Ваня гостили в имении Демьянки (Могилевской губернии), у Елены Петровны Герард, матери Николая, Владимира, Ивана Герардов и сестры их Марьи Николаевны Врангель фон Гюбенталь. Помню, что мы живем во флигеле, откуда нас водят в большой дом к красивой, ласковой, добродушной старушке, в плоском чепце. В окошко флигеля, в котором мы живем, мы, дети, кормим собак, которых приманивает такая подачка… Чувствуется, что, хотя мы и находимся у родственницы, но что это – барыня, перед которой наша мать стесняется. Робеем и мы, дети… Нам запрещается громко говорить, шалить в большом доме, где нам скучно и откуда нас тянет к подружившимся с нами псам.
Но прерву мои детские, отрывочные воспоминания и вернусь к моей семейной жизни и солнышку, и освещавшему своими живительными лучами, к нашей Мамочке…
Для полной характеристики незабвенной Мамочки, я должен отметить, что вообще она редко с кем сходилась близко, по-дружески, предпочитая интимным отношениям, одинаковые со всеми ровные, приличные, но сдержанные отношения. Она очень любила Тетю и дядю Андрюшу, но и их не всегда впускала в свою душу, и от них многое скрывала, во имя сохранения мира и добрых связей. Не даром Тетя, в минуты неудовольствия, говорила про нее: «Светит, но не греет!..» Я же, в шутку, называл иногда Мамочку «дипломатом в юбке». Знаю, что более всего, она была близка и дружна в молодости с княжной Оболенской, Ольгой Андреевной Шаломытовой (рожд. Костогоровой, своей родственницей) и Марией Никитичной («Маней») Власовой, сестрой Елизаветы Никитичны Власовой, рано, от чахотки, скончавшейся в Вильне, и с родственницей своей Верой Александровной Плеве (рожд. Сухомлиновой). Но и их, едва ли она делала поверенными своих интимных дум, тревог и надежд…
Мне нравилось отношение Мамочки к прислуге, к гувернанткам, боннам, нянькам и другим служащим, беднякам. Когда у нас бывали на дому детские вечера и елки, Мамочка, бросая иногда гостей, старалась занять, угостить приехавших с детьми гувернанток, говоря с ними на иностранных языках.
Редко когда я видел ее рассерженной, вышедшей из себя. В шутку я напомнил Мамочке случай, когда за общим, семейным чаем, она, после упрашивания меня – не говорить о предчувствии скорой моей смерти, через стол, бросила в меня мандарин, конечно, деликатно, чтобы не ушибить меня…
Тяготение к простым, ниже ее поставленным людям, выражалось у Мамочки и в том, что часто, отказываясь от общего с нами стола, она шла на кухню и ела с прислугой то, что готовилось там к обеду кухарки и няни.
К Пасхе и Рождеству дядя Андрюша, из Карльсберга, присылал нам всяческой вкусной, дорогой, деревенской провизии, часть которой шла для устройства праздничного стола наших служащих. В своей гостиной Мамочка никогда не прятала своих, бедно одетых родных и других неимущих посетителей от бывавших в нашем доме высокопоставленных лиц: для нее всегда и везде все были равны… И тут у нее проявлялось много такта и уменья жить с людьми.
Дорогая Манюточка! Не упрекай меня в том, что я, набрасывая для тебя эти беглые заметки в комнатке, в которой стынут мои руки и ноги, бываю не всегда последователен при изложении хода событий нашей семейной жизни!.. Много вспоминается постепенно, по мере того, как я переношусь в прошлое. Так и теперь мне хочется рассказать тебе кое-что о твоих предках, тем более, что только я один могу это сейчас сделать… А с моею смертью угаснут и последние наши фамильные воспоминания… Надо торопиться повествованием.
Не помню, упоминал ли я о том, что когда я женился на Мамочке, ее именья были в запущенном состоянии. Всюду сидели арендаторы, платившие ничтожную аренду, но ловко устраивавшие свои личные дела. В большем порядке было именье «Карльсберг» и, как недалеко находившееся от Вильны, в которое на лето приезжали дядя Андрюша, а иногда и Мамочка с Тетей.
Когда Мамочке досталось, по разделу, родовое именье Кукольников – Пузыревских «Лабардзи», Ковенской губернии, Россиенского уезда, фольварк этого именья, с домом, садом, холодными постройками арендовал некто Вербицкий. Так как Лего не позаботился в течение долгих лет заключить с этим Вербицким контракт, то, после его смерти, жена его заявила, что она является собственницей фольварка. Я начал с нею процесс. Вербицкая выставила подкупных свидетелей. Хотя дело было доведено до сената, но мы его проиграли, и я, всегда стоявший за правду, и за Мамочкины интересы, имел горе видеть эту землю в чужих, подлых руках.
Мне хочется, сказать тебе, что в именьях Мамочки уцелели жилые дома – в «Богданове» (Виленской губернии, Дисненского уезда), и в Лабардзях» (Ковенской губернии).
«Лабардзи», до падения крепостного права, благодаря заботам старых Пузыревских, владельцев его, особенно уездного предводителя дворянства Степана Онуфриевича Пузыревского, было когда-то богатым владением, с заводами, с фруктовыми садами, с двухэтажным домом в 14 комнат, с колоннами, оранжереей, парниками, прекрасным каменным флигелем и полукаменными холодными постройками (конюшнями, амбарами, погребами, людской). За садом, с прекрасной липовой аллеей, в недалеком расстоянии, находилась деревянная православная церковь, на холме обсаженном каштанами, внутри которого помещался склеп с прахом троих Мамочкиных предков – Пузыревских. Местность именья была гористая, пересекалась быстрыми речками, в которых водились форели (или, как их, на местном наречии, называли «петромги»). Кругом рощи, леса, краснолесье: дуб, клен, рябина, осина, ольха и т.д.
Когда я, в первый раз приехал, в качестве Мамочкиного поверенного, то, хотя и застал вышеупомянутый дом, но уже без колонн, балкона, оранжерей. Дом и постройки находились в запущеньи. Фруктовый сад, не подсаживался и одичал. В склеп с покойниками забрались воры, соблазненные легендами о том, что при покойниках схоронены дорогие вещи. Этому отчасти способствовало то, что один из Пузыревских, как носивший мундир, был погребен в блестящей военной форме. От заводов остались только фундаменты. В именье, кроме «пани Гавдзилевич» сидел, в качестве арендатора, ее племянник Пшеволоцкий с женою, который грабил все, что только было можно и которого, в конце концов, несмотря на его капитанский чин и польский «гонор» (честь), за незаконную рубку нашего леса, я выгнал из именья. Но в доме все еще пахло стариной, Мамочкиными предками, фамильными преданиями, хранительницей которых была престарелая «пани Гавдзилевич». По целым часам я любил слушать рассказы болтливой старушки, с молодости сжившейся с «Лабардзями» и производил розыски старинных вещей и бумаг, кое-где находившихся. То, что не было раскрадено, находилось в страшном запустении. На стенах, в старинных, испорченных рамах, висели еще фамильные портреты предков Мамочки Кукольников, Пузыревских, а также хорошие портреты их друзей – четы Пеликанов и четы Ланских, сенатора и его жены, масляными красками. Я находил дорогую, старинную мебель, настолько загаженную, что трудно было первоначально признать в ней что-либо интересное. В одном из бюро, ключи от которого были потеряны, нашел я кое-какие фамильные бумаги и письма епископа Ковенского Платона (друга Пузыревского, впоследствии известного митрополита киевского). Случайно, в одном из ларей-сундуков, наткнулся я на остатки прекрасного фамильного сервиза с соединенными гербами Кукольников – Пузыревских. Сервиза я не трогал, увезя лишь несколько старинных тарелок саксонского фарфора. Но мебель, портреты, бумаги перевез в Вильну, где все, при бегстве нашем от немцев, в 1915 году, и было раскрадено… Мамочка была всегда недовольна, когда я брал что-либо из «Лабардзей», но потом примирялась…
Я любил приезжать в «Лабардзи», когда все там, вокруг дома, цвело и благоухало, при изобилье сирени и черемухи. Ветви деревьев из сада, лезли в окна. Всюду – и в саду, изобилье соловьев. В одном из садов (парке) имелось несколько запущенных прудов, когда-то соединявшихся ручьем, на котором стояла («во время оно») водяная мельница. Ручей давно иссяк; но пруды сохранились. Они имели особые формы, по которым, в честь бывших владельцев именья, звались «Сердце Юлии Алексеевны» (Кукольник), «Слезка Марии Алексеевны» (матери Мамочки) и т.д. Старые черемухи, надломившись, падали в пруды и там, поднимаясь из воды, еще цвели и благоухали. Мне, как молодому поэту, нравилась именно эта, поэтическая, запущенность старого парка и я запретил делать в гуще его, какие либо расчистки и порубки. В местности, где было именье, сосна и ель почти отсутствовали. В одном из участков Мамочкиного леса находилось несколько старых елей, да две прекрасные, старые, нарочно посаженные сосны означали вход в парк … А по ночам, среди старых, дуплистых деревьев, гукал филин, кричали совы… Мне было приятно выходить, через заднюю калитку фруктового сада, в поле, к реке, садиться под вековыми липами и дубами и слушать нескончаемую перекличку бесчисленных соловьев по кустарникам…
Мамочка только раз, в юности, с дядей Андрюшей, посетила «Лабардзи». Пани Гавдзилович любила рассказывать, как она, сидя в зале за разбитым роялем, играла молодым владельцам старинные полонезы и вальсы, и как Андрюша с Мамочкой вальсировали по паркету, по которому когда-то, во время балов, скользили ноги его предков… Она любила показывать мне в зале вдавленную плитку паркета, объясняя, что будто бы, во время одного из балов Павел Васильевич Кукольник во время мазурки, так ретиво прихлопнул ногою, что вдавил паркетину.
Не мало она рассказывала мне про Степана Онуфриевича Пузыревского, человека, по тем временам доброго и порядочного, любимого местным дворянством, но деспота и самодура в семье. При моих приездах в «Лабардзи», я столкнулся еще с бывшими крепостными Пузыревских. Один из них, старик, бывший кучер Степана Онуфриевича, передавал мне, что барин приучил его везти так, чтобы экипаж не натыкался, по пути на камни и встряской своей не беспокоил «барского чрева». Пузыревский любил ездить, за три версты, к своим старым друзьям, помещикам Вольмарам, в гости и иногда подолгу оставался у них. Гостили и они в «Лабардзях». Запрягалась четвериком коляска, с верховым мальчишкой «форейтором», который трубил в рожок, что бы встречные мужики сворачивали со своими телегами с пути «пана». По словам бывшего кучера, когда, во время поездок к Вольмарам, случалось, что экипаж натыкался на камень и встряхивал «пана», он приказывал кучеру остановиться, передать вожжи от четверика лошадей сидевшему рядом с ним, на козлах, лакею, слезть с козлов, найти «виноватый камень» и поцеловать его. Сколько раз толчки случались, столько раз кучер целовал булыжники, а, затем, в своей тяжелой, кучерской одежде, опять, с трудом взбирался на козлы … И хватало же у Пузыревского терпения самого себя обрекать на такие задержки в пути! Ну, и были же, в крепостную эпоху, нравы!!. Жалеть ли о том, что они канули в вечность?!.
Пани Гавдзилевич рассказывала мне, что когда этот Пузыревский, после обеда, ложился отдыхать, то в доме воцарялась мертвая тишина… Я знал еще в «Лабардзях» старинные часы, в высоком, разрисованном футляре, когда-то игравшие несколько музыкальных пьес. По словам Гавдзилович, жена Пузыревского захотела сделать супругу своему сюрприз: поехала, через границу, в Тильзит, купила эти часы и, когда Пузыревский заснул, завела их, почему они и заиграли. Взбешенный, разбуженный, старик выбежал в соседнюю комнату и, в сердцах, так хватил палкою по футляру, что часы остановились и никогда уже более не играли…
Зато не мало хорошего сообщала мне «пани Гавдзилович» о живших когда-либо в «Лабардзях» женщинах, особенно о доброте жены Павла Васильевича Кукольника Юлии Алексеевны. Когда, например, при отмене крепостного права, производилась урезка части земли от помещиков, эта женщина-христианка, которую и крестьяне, и домашняя челядь, обожали за ее гуманное к ним отношение, заботилась только о том, чтобы к крестьянам отошли лучшие земли, при том с лугами, деревьями т.д. Неудивительно, что после такого отреза от именья, последнее стало падать. Все же, когда я женился, в «Лабардзях» имелось более 500 десятин земли, часть которой была неудобной для обработки.
Любил я подъезжать к «Лабардзям» и глубокой осенью, когда с последнего перед именьем пригорка открывался вид на постройки, церковь, рощи, разукрашенные всеми цветами осени…
Бывало, пойдешь гулять по окрестностям, и вспугиваешь тетеревей, куропаток и другую дичь, но непуганую, так как за нею мало кто охотился. Придет арендаторша и расскажет, что сейчас, у самого дома, видела во ржи дикого козла с козочкой. Недалеко от дома, в оврагах, покрытых вековым лесом, водились, в большом количестве, лисицы и барсуки.
Когда я стал приводить в порядок вышеупомянутый фамильный склеп, то нашел в нем, по углам, не мало гусиных и утиных лапок и перьев. Это лисицы, пробираясь внутрь склепа через окна с решетками, устроили себе здесь гнезда и лакомились награбленным. При первом моем приезде, церковка над склепом, еще стояла. Но была в полном разорении, так как, с уходом из именья православных помещиков и с появлением там арендаторов – католиков, в ней богослужений не совершалось (да и ближайшее духовенство жило в 50 верстах от г. Россиен, куда, в виду упадка именья и равнодушия опеки, и перетащило всю церковную обстановку). Церковь была сооружена над склепом по инициативе Павла Васильевича Кукольника, когда, на лето, в именье, где он жил с женою сам, стекалось в гости много родных. Тогда вызывался из Россиен священник, и совершались богослужения, служились молебен, панихиды и т.п.
При посещениях Мамочкиных имений «Богданово» и «Лабардзи», я всегда заботился о приведении в должный вид могил Снитко (около первого именья) и Пузыревских (в «Лабардзях»), чинил памятники, возобновлял надписи на надгробиях, пришедших в заброшенный вид и т.д. Занялся я и приведением в порядок склепа в именье «Лабардзи». Я нашел в нем три дубовых гроба, на двух каменных подставках, разломанными, кости выброшенными, равно как и остатки одежды, обуви. Суеверные жильцы «Лабардзей» боялись помогать мне в моих работах. Поэтому принялся за работу я сам: сколотил гроба, уложил в них кости, приставив черепа (вероятно, перепутав покойников), закрыл гроба крышками, повесил в склепе икону, дверь же склепа запер и завалил грудой булыжников. Могильный холм по моему приказанию был обнесен оградой, чтобы на него не взбирался скот…
Моя мечта была, чтобы Мамочка с вами хоть одно лето провела в «Лабардзях», как на даче. В таких видах, я познакомился с соседними помещиками Бурнейко и Вольмарами, с ксендзом, жившими недалеко от костелов в местечках Колтынянах и Вареядах. К лету 1915 года я уже сделал распоряжение о том, чтобы к дому была пристроена деревянная, крытая веранда, а по парку разбиты (по моему плану) дорожки и поставлены скамейки. Но война, бегство в Симбирск и другие обстоятельства, расстроили все мои предположения. Так вам, моим деточкам, пока не удалось побывать в своем родовом, наследственном углу – говорю пока, так как кто может поручиться за будущее?!.
Проклятая война! Как много она принесла зла не только человечеству, России, но и нашей семье. Благодаря ей, мы, обратившись в кочующих, потеряли все состояние, Мамочку, дядю Андрюшу, моего брата Ваню, Севу и других родственников, погибших или на войне, или, из-за войны, в изгнании, по чужим местам!. Все, что я сделал в Вильне тоже погибло: два основанных мною музея, мои культурные пожертвования в разных учреждениях Вильны и других местах Северо-Западного края! Я добился уже ассигнования средств для устройства в Вильне особого, общего архива, куда были бы свезены все исторические архивы Вильны и т.д. Разрешались благополучно и хлопоты мои по наименованию Виленской рисовальной школы имени Ивана Петровича Корнилова и Ивана Петровича Трутнева (я имел уже уведомление о том, что этот вопрос разрешен в благоприятном смысле). Предвиделось осуществление моих проектов по улучшению быта военных узников… И все, все погибло! Только бумаги моего личного архива, ныне находящиеся в Толстовском музее свидетельствуют, по словам известного стихотворения, – «что ты была, и что стала, и что есть у тебя».
Мамочка, потерявшая все, что имела, умиравшая нищей, в минуты, когда я, оглядываясь на наше, недавнее благополучие, всегда успокаивала меня словами: «Бог дал, Бог и взял! Да будет на то Его святая воля!» Увы! Я не всегда мог дойти, довести себя, до такой, истинно Евангельской философии… Более всего, я страдал за вас, бедные мои детки, юность и молодость которых протекала так страдальчески убого… За что?!. Неужели за грехи и ошибки ваших предков?!.
Еще вспоминается кое-что о нашей родне, главным образом, о родне со стороны моих родителей.
Мамочка и я были очень дружелюбно расположены к моим троюродным братьям Феде и Саше Измайловым (Федору и Александру Николаевичам Измайловым, отец которых, кавалерийский генерал Николай Александрович Измайлов, человек удивительной доброты, женатый на родной сестре композитора Глинки, Ольге Ивановне, был двоюродным братом моего отца). Но ты, надо думать, еще помнишь Федю Измайлова, когда, приезжая в Вильну к другу своему полковнику Заблоцкому, он посещал и нас, также как и брата его, певца, учителя музыки, еще недавно разыскавшего тебе в Москве. Федя (генерал) заведовал Дубровским конным заводом великого князя Дмитрия Николаевича, был человек высоких нравственных, умственных качеств, был всеми уважаем и любим. После его смерти, я был в Дубровском заводе и, в числе найденных мною писем, нашел несколько Мамочкиных с пометкой Феди «идейное», ему ею адресованных.
Вообще в числе моих родных, я вспоминаю не мало личностей, с удивительно добрым сердцем, и, в тоже время, с недостатками, которые портили их жизнь. К числу их следует присоединить родную сестру моего отца Зинаиду Ивановну Ган. Имея взрослых детей, она сошлась с одним врачом и прижила с ним Женичку (Евгения Федоровича Жиркевича), который сделался, благодаря ее баловству, нравственным уродом. Я вынужден был порвать с ним связи. Если он жив, что, вероятно, при нынешних нравах, где-либо хорошо устроился. Я нарочно напоминаю тебе и сестрам твоим, на случай, если ты дашь им прочитать эти заметки, об этом чужом нашей семье человеке, в предупреждение, на случай встречи с этим страшным типом русской общественной мути… Мать же Жени, до самой смерти своей, как говорится, «души в нем не чаяла», молилась на него, жила только его интересами, рассорившись из-за него с моей матерью… Мамочка его не знала. Уже, служа, в акцизном ведомстве, он неожиданно, появился у меня в квартире, в нетрезвом виде, что дало мне право выпроводить его вон, сказав, что я не признаю его «родственником», как он велел прислуге доложить о себе мне. На том наши отношения и порвались…
Мамочка мне рассказывала, что благодаря общественному положению ее отца и Павла Васильевича Кукольника (он, как бывший профессор Виленского университета, цензор и действительный статский советник), в доме их бывал весь духовный и административный люд высших кругов Вильны. От нее и других я слышал, что, в эпоху восстания 1863 года и варварской, кровавой расправы с мятежниками гр. М. Н. Муравьевым, и К. М. Снитко, и П. В. Кукольник, пользовавшиеся расположением этого человека, своими ходатайствами, немало спасли поляков, замешанных в восстании, от ссылки, и, может быть, от виселицы. Об этом же мне говорили и некоторые поляки. Надо заметить, что Павел Васильевич Кукольник отлично знал польский язык и свободно писал по-польски, что видно из его писем к арендатору «Лабардзей», брату Елены Антоновны, Гавдзилевичу, найденных мною у старушки. К слову сказать, у нее же, я нежданно нашел весьма ценные документы рода Гавдзилевич, в том числе и бумаги, относящиеся к Наполеоновским походам и восстанию 1863 года. Все это она мне и подарила, объяснив, что остальную часть фамильного архива ее покойного брата употребила на зимнюю обклейку окон…
В числе знакомых, бывавших у нас в доме в Вильне, которых особенно любила Мамочка, и которую, в свою очередь, любили и чтили ее, была интересная старушка Елизавета Густавовна Смецкая, сын которой, рано угасший (в 1888 году) от чахотки, был моим сослуживцем по Виленскому военно-окружному суду (откуда и мое знакомство с его осиротевшей матерью и моя с ней дружба). В память Мамочки, мне хочется познакомить тебя с этой интересной, даже выдающейся, личностью (православной, несмотря на немецкое отчество). Муж ее был генерал и занимал видное место в придворном (кажется, удельном) ведомстве. После его смерти, она осталась без средств и без пенсии, с сыном-кадетом Семеном («Сеничкой»). Пришлось от обеспеченной, даже роскошной, обстановки, перейти на положение бедной вдовы, ищущей заработка. Молодая, красавица Смецкая не растерялась и принялась за работу, добывая себе и сыну средства шитьем. Когда этого оказалось недостаточным, она стала отдавать часть квартиры жильцам. Это столкнуло ее с Антокольским, Орловским, Крамским и другими молодыми «Передвижниками», отколовшихся от Академии художеств, застывшей в традициях старой, классической школы, сблизило ее с художником Репиным, В. В. Стасовым и другими выдающимися личностями, посещавшими ее квартиру, на которой поселилась, терпящая нужду, порвавшая демонстративно связи с Академией, художественная молодежь. Познакомившись с Елизаветой Густавовной, я нашел у нее подарки некоторых ее бывших жильцов, в том числе гипсовую голову еврея из неоконченной группы Антокольского «Инквизиция и евреи», и медальон-портрет Смецкой в молодости, работы того же Антокольского, пейзаж Орловского и прочие. Все это, по желанию Елизаветы Густавовны, отчасти при жизни ее, отчасти после ее смерти, я и получил в наследство, отдав, в 1922 году, в Симбирский художественный музей (в доме Перси-Фроеч, на Московской улице).
Смецкая была обычною посетительницею Мамочкиных праздничных и воскресных вечеров с нуждающимися старичками и старушками. Мне удалось выхлопотать ей пенсию от «Белого Креста» и изредка добывать ей пособия от благотворителей и учреждений. Сама себе во всем отказывая, она копила все эти деньги, как потом оказалось, мечтая оставить их в наследство мне и Мамочке. Больная чахоткой, старушка умерла скоропостижно. Нам пришлось хоронить ее на наш счет. Присутствуя, как близкий ей человек, при описи ее вещей полицией, я видел, как пристав, в кармане юбки покойной, нашел, в особом свертке более 1000 рублей. Мне неловко было предъявлять к ним претензии. И деньги, как никому не принадлежащие, в ожидании возможных наследников, которых у покойной не было, попали в руки полиции…
Мне хочется рассказать тебе еще историю портрета Павла Васильевича Кукольника работы знаменитого Карла Брюллова, ныне украшающем вышеупомянутую картинную галерею в Ульяновске (Симбирске). С первых же визитов в дом Павла Васильевича, Варвары Ивановны Пельской и Мамочки, тогда еще подростка, я обратил внимание на этот замечательный портрет с натуры, хотя и незаконченный, но поражавший силою мазка, выражением, мастерством художественного вдохновения. На портрете, на котором молодой Кукольник изображен великим художником в халате, с заложенными за спину руками, закончена лишь голова со смеющимся, красивым, выразительным лицом. Сам Павел Васильевич Кукольник рассказывал мне о происхождении этого фамильного Мамочкиного портрета, по наследству доставшемуся Мамочке, а, затем, подаренного его мне. Как известно, брат Кукольника Нестор Васильевич был очень дружен с К. Брюлловым. Во время своих приездов к брату в Петербург, сошелся с ним и Павел Васильевич. Последний был глубоко-верующий, при том в церковно-православном духе, человек. У Брюллова же и Нестора Кукольника собирались знакомые, совсем иного, антирелигиозного, направления. На почве религии закипали горячие, бесконечные споры. Однажды, как говорится, «припертый к стене» оппонентами, Павел Васильевич встал именно в ту позу, с заложенными за спину руками и насмешливо вызывающим лицом, в какой потом изобразил его на портрете, своею бессмертной кистью Брюллов, как бы желая, молча, выразить свою мысль: «Врите! Врите! С вами спорить не стоит!» Брюллову поза эта понравилась, крикнув Кукольнику «Стой!», он тут же сделал с него первоначальный эскиз портрета, а, затем, в несколько сеансов, набросал с Кукольника и самый портрет, почему-то не закончив его и, в таком виде, подарив «оригиналу».
Портрет этот видели у меня, бывая у меня в Вильне, два знаменитых русских художника, мои друзья И. Е. Репин и В. В. Верещагин. Оба пришли от него в восторг. Репин же, уехав от меня заграницу, в одном из писем своих оттуда об искусстве, упомянув о посещении меня в Вильне, посвятил этому, действительно выдающемуся произведению К. Брюллова несколько сочувственных строк…
Мамочка не была знатоком живописи и даже к этому, выдающемуся произведению кисти гениального Брюллова относилась довольно равнодушно, ценя в нем лишь «портрет дедушки». Зато она глубоко и сильно понимала и ценила музыку. Не забуду, как, во время приездов в Вильну моей доброй знакомой, певицы-артистки М. И. Долиной-Горленко, после спетой ею с удивительной экспрессией арии «Вани» перед монастырем (из «Жизни за Царя»), мы с Мамочкой пошли в комнату для артистов благодарить Марью Ивановну за ее исполнение. Мамочка начала, было, говорить, но расплакалась и пошла в другую комнату, а за нею, со стаканом воды, утешать ее, отправилась артистка, говоря: «Душенька! Успокойтесь! Как вы глубоко чувствуете!» Мамочка без слез не могла слышать финала знаменитого трио Чайковского «На смерть великого артиста» (Николая Рубинштейна). Нередко и в других случаях, она, вопреки своему обычаю скрывать свои чувства, выдавала себя.
Ты, Манюточка, вероятно еще не забыла того, как Мамочка с тобой и сестрами устраивала импровизированный вечер, при чем пелись и светские песни, и церковные, хоровые песнопения; Мамочка же сама аккомпанировала на рояли. Она старалась развить ваш слух и голоса. У всех вас были недурные голоса и музыкальные способности. Она вообще, в деле воспитания детей, придавала огромное значение искусству, не жалея средств на наем для вас хороших учительниц музыки…
Мамочка никогда не была красива. Но у нее были, в молодости, изящная фигурка, чудные, почти до колен, густые волосы и ясные, чистые, красивые глаза, при свежем, ярком румянце лица. При скромности костюмов и манер, она, в обществе, поражала всех, тактом и сдержанностью, так что казалась старше своих лет и выделялась между подругами, с которыми в Вильне «выезжала в свет». Неудивительно, следя за нею, в моей молодости, я в нее скоро влюбился.
На вечерах, в те дни, мы с нею встречались у старушки Любовь Петровны Марк, сестры известного генерал-адъютанта Константина Петровича Кауфмана, у которой были молодые дочь и сын. В доме устраивались домашние спектакли, в которых, на второстепенных ролях, принимала участие и Мамочка; после же спектаклей танцы под рояль, на котором играли или тапер, или сама Любовь Петровна, или кто либо из присутствовавших дам общества г. Вильны. Там я и Мамочка встречались со многими высокопоставленными лицами, в том числе с семьей Виленского генерал — губернатора и командовавшего войсками Виленского военного округа генерал — адъютанта Эдуарда Ивановича графа Тотлебена, знавшего m-me Марк по брату ее Кауфману. Несмотря на присутствие таких «особ», на вечерах царило полное, непринужденное настроение. Мамочка танцевала хорошо. Но я, как не танцующий, только ею издали любовался… Признаться, я сам долго не мог отдать себе отчета в том чувстве, которое невольно влекло меня к Мамочке. Только почувствовав окончательно, что я влюблен, решил я завоевать право на семейное счастье высшим образованием, почему и стал готовиться в Академию!..
На этих, симпатичных, семейных вечерах, где завязалось много сердечных отношений, кончившихся, затем браком, особую группу пожилых дам составляли В. И. Пельская, выезжавшая сюда только ради Мамочки, Клеопатра Александровна Тейнер, бывавшая еще в доме матери Мамочки Марии Алексеевны Снитко и Екатерина Антоновна Плотникова, с дочерью которой Катей, Мамочка поддерживала хорошие отношения.
Когда мы жили в Смоленске Мамочка сошлась очень с семьями фон дер Тилен (Марьей Аркадьевной, ее мужем Леонидом Федоровичем и дочерью Юлией Леонидовной), с семьей отставного адмирала Тумилло-Денисовича (особенно с его сестрой Варварой Михайловной), с княгиней Туркестановой, m-me Андион и Марьей Александровной Вонлярлярской, жившей в родовом именье «Вонлярово», недалеко от Смоленска. И здесь, как в Вильне, она вся уходила в жизнь детей, вместе со мною переживала всякие мои неприятности. Смоленское общество так любило Мамочку, что, когда она. отдельно от меня, уехала в Вильну, на вокзал явилось провожать ее много знакомых и друзей, принеся с собою коробки с конфетами и шоколадом, ей и всем на дорогу. Приехав в Смоленск с неудовольствием, она покидала его с сожалением.
Дорогая Манюточка! Я хотел на этом месте моего повествования, прервать рассказ о родных и знакомых, перейдя опять к моей семейной жизни с Мамочкою. Но ты пришла и, узнав, что я для тебя, пишу воспоминания, попросила, чтобы я подробно рассказал о моем детстве и юности. Я не люблю таких тем, так как они вызывают много скорбного из моего прошлого. Однако, желая исполнить твою просьбу, попробую внести в настоящую памятку кое-что из этой полосы моей жизни.
Мать моя была женщина очень добрая, любившая нищету, животных, природу, всю жизнь кому-либо помогавшая (до глубокой старости сохранившая веру в Бога, привязанность к церковным обрядам и чувства патриотки). Много она выстрадала от пороков и характера моего отца. Все это не мешало ей держать нас, детей, в деспотическом порабощении, убивая в нас всякое проявление самостоятельности, оригинальности. У нее применялись к детям суровые, подчас унизительные, наказания, в роде колотушек, дранья за уши, постановки на колени и т.д. Никогда не быв хорошей воспитательницей, в детстве сама ростя на свободе, отличаясь шаловливым, неподатливым нравом, мать моя, едва мы начали учиться у нее начаткам грамоты, стала насаждать в нас эту науку, применяя самые суровые методы воздействия. Преподавала она плохо. Мы, по этому, слабо, медленно усваивали себе грамоту. Это выводило маму из себя, заставляя наказывать нас. Немало, в детстве, я пролил горьких слез, будучи обруган (как мне казалось, несправедливо), наказан (поставлен на колени, выгнан на двор с пришпиленной булавкою к спине тетрадкой для чистописания, которую по неосторожности залил, во время урока, чернилами). Отец, за всю свою жизнь, только два раза, по отношению ко мне, употребил насилие. Один раз, за что-то на меня рассердившийся (кажется за то, что я, при ветре, открыл окно, от чего отдувшейся шторою, с этажерки, были сброшены мамины безделушки), ударил меня по щеке. Мама вступилась за меня, и стала в негодовании бросать в отца оставшимися на этажерке безделушками, так что он, со страху, выбежал в другую комнату. Я был тогда уже гимназистом (реалистом). В другой раз, когда уже подрос и жил у родителей на каникулах, во время ужина, у отца и матери началась перебранка. Оскорбившись за мать, я вмешался, сделал отцу замечание, после чего он из-за стола вытолкал меня вон из дома, и я, дня три, скрывался у бабушки, жившей отдельно, за садом в бане. Но и отец, по временам, обходился с нами, детьми, самодурно и несправедливо. Помню, как, желая досадить маме, он предлагал нам пить водку, а в другой раз, когда я заметил, что не следует кормить животных из одной тарелки с людьми, заставил меня, ребенка, есть то, что было в тарелке, из которой лакала суп любимая папина комнатная собачка… Мне не хочется пачкать эти страницы другими, подобными воспоминаниями. Я обрываю их, так сказать, на полуслове, что можно было ожидать от человека, зачастую пьяного?!.
К слову сказать, несмотря на суровый режим, введенный в детскую и школьную комнаты моею матерью, я, до болезненной привязанности, с самого раннего детства, любил ее и жалел, так как видел, как много страдала от дурного характера и привычек отца. В домашних стычках между родителями я всегда был на стороне матери. Она же, в минуты особой нежности, оставаясь наедине с нами, детьми, подчеркивала недостатки отца, жаловалась на свою судьбу и т.д. Неудивительно, что, с раннего детства, у меня вырастало особое, враждебное чувство к отцу, дошедшее в юности до затаенной к нему ненависти… Отец, по своему, любил и нас, и маму. Но это был самодур, отравленный алкоголем, не могший быть уверенным в том, что сделает через несколько минут. До сих пор помню и периоды добрых отношений между отцом и матерью. Бывало, проснешься ночью в спальне (в ней же спала с нами и мама), и видишь, как на ее кровати сидит отец, трезвый, только что вернувшийся из гостей. Он развернул газету, из которой, пересчитывая, вынимает кучу бумажных денег: это результат его счастливой игры в карты. После этого мама или едет развлекаться в Петербург, или шьет себе новые, бальные наряды… Конечно, и мать не всегда же бывала с нами суровою… Ложась спать летом после обеда, для того, чтобы я и брат мой не тревожили ее играми, она предлагала нам ловить мешавших ей спать мух, возможно тише и, когда это нам удавалось, угощала нас вкусными грушами, покупавшимися у арендовавшего сад еврея…
Вообще, как только начинаю вспоминать мои детство, юность и зеленую молодость, они мне представляются рядом крутых переломов в жизни. Одним из таких переломов, явилось передача нашего первоначального обучения настоящим педагогам Каченовскому и Ельцову, людям добрым, мягкосердечным, любившим нас, детей, и насаждавших в нас начатки знаний не окриками и наказаниями, а с терпением и кротостью. Особенно, в этом отношении, вспоминается мне Качановский, холостяк, по-видимому, преподававший в каком-то духовно – православном учебном заведении, там же и живший. Заведение находилось далеко от нашей квартиры, за городом, и мама нас отпускала к учителю в сопровождении горничной. При одном из таких путешествий, которые мы с братом очень любили, в поле мы наткнулись десятка на два собак, ухаживавших за сучкой. Когда эта сучка залаяла на нас, то вся свора, в составе которой были огромные псы, с остервенением и лаем бросилась на нас. Мы были бы разорваны на части или жестоко искусаны, если бы не находчивость девушки, севшей на землю и усадившей нас рядом с собою. Собаки, вообразив, что мы собираем с земли для самозащиты камни, оставили нас в покое.
Как теперь вижу огромные казенные здания, толпы играющих в саду и на дворе учеников и уютную, прохладную квартирку Каченовского, в которую так приятно было скрыться от палящих лучей солнца. У него открыто окно с решеткою. За окном – кусты цветущего жасмина. На столе, кроме учебников и других книг, на особом блюдечке, под слоем благоухающих цветов жасмина и роз, приготовлено для нас угощение; мармелад, леденцы, орехи. По окончании урока, всем этим мы и наделяемся…
Другим, резким переходом в моей жизни было отдача меня и брата в Виленскую реальную гимназию (позднее переименованную в реальное училище) и переезд для этого в Вильну, с помещением у бабушки Марии Осиповны Астафьевой на ее общую ученическую квартиру. Бабушка, сама еле-еле умевшая читать и писать, воспитанная на свободе, в захолустье, в степи, скоро обратила свой приют в гнездо распущенности и разврата, сама того не сознавая, по наивности и незнанью жизни и людей. На квартире жили гимназисты, и подростки, и великовозрастные ученики старших классов, нередко бривших себе уже усы и бородки. Эти великовозрастные, курившие, пившие втихомолку, предававшихся всяческому разврату, сбивали с толку и малолетних своих сожителей… Царствовали в квартире – буйная свобода и разврат, о которых до начальства реального училища доходили иногда слухи. Оно делало внезапные налеты на квартиру, но так неудачно, что не натыкалось на непорядки. Бабушка же вызывала симпатии своей простотой обхождения, речи, бедностью. Начальство ей все прощало и на многое, нежелательное, снисходительно смотрело сквозь пальцы. Мать моя, приезжая по временам из деревни в город, завела между педагогами влиятельные знакомства, распространявшиеся и на бабушку.
Если, живя в обстановке бабушкиной квартиры, я не сделался пьяницей и картежником, то лишь потому, что ненавидя и презирая эти пороки в отце моем, во всю мою жизнь не пил и не курил, по глубокому убеждению, несмотря на всевозможные соблазны.
В моей юности я отличался оригинальными выходками, в бытность мою в реальном училище, обращавшими на меня внимание и начальства, и товарищей… В доме моих родителей литература, искусство отсутствовали, если не считать романов уголовного характера, которыми зачитывался, при обилии бывших у отца в деревне досугов, и романов другого характера, читавшихся матерью, а стены родительского дома, не считая «красных углов», где сверкали ризы икон, были украшены дешевыми олеографиями на патриотические темы и церковными портретами. Тем не менее, с юности, во мне развились и любовь к настоящей, художественной литературе, и восторженное отношение к произведениям искусства. По части увлечения моей литературой, роль сыграл преподававший русский язык и словесность известный, в те дни, провинциальный писатель и незаурядный педагог Семен Вуколович Шолкович, который был в хороших отношениях с моими родителями, и часто приезжал к ним, летом и осенью, на охоту. Шолкович интересно читал и обращал особое внимание на классные сочинения на литературные и иные темы, заохочивая учеников к такого рода упражнениям. Хотя он и говорил, шутя, что на «пятерку» (высший, в то время, бал по пятеричной системе) могут писать сочинения только он да Бог, но я, в скором времени, дошел до такого мастерства в писании сочинений и классных, и вне классных, что стал постоянно получать у Шолковича пятерки, самые же мои письменные работы зачитывались им в классе, вслух, как образец выдающегося писанья. Увлекшись, благодаря такому поощрению, литературой, я рано стал писать стихи, раболепно подражая Лермонтову, особенно его кавказским поэмам, героический дух которых увлекал меня, так как я рано стал мечтать о героических подвигах, славе и т.п. Я так был уверен в оригинальности своего поэтического таланта, что послал тайком, одно свое стихотворение Ив. Серг. Тургеневу, посвятив его ему, и к неожиданной радости, получив от него его фотографию с надписью, которая и сейчас хранится в одном из моих альбомов.
В художественном же отношении огромное впечатление на меня <произвела. – Н. Ж.> заехавшая в Вильну выставка картин «передвижников». Это было для меня каким-то откровением. Я целые часы проводил на выставке в созерцании, изучении наиболее понравившихся мне картин и портретов. С тех пор я стал заниматься и коллекционерством, начав собирать литографии, книги, журналы с иллюстрациями. С годами все это превратилось в страсть, которая не оставляет меня и сейчас, на положении старого, бездомного, сироты-нищего, незнающего, где через неделю он будет, чем станет существовать… Подобными, литературно-художественными настроениями и симпатиями я обязан отнюдь не родительскому дому, в котором о развитии моих эстетических наклонностей не заботились, а, подчас даже их и высмеивали…
Почувствовав себя на свободе в реальном училище и на бабушкиной квартире, я плохо успевал по наукам, особенно по математике. Под влиянием разнузданных, испорченных товарищей, я скоро обратился в выдающегося шалуна и проказника, за мое удальство любимого в заведении такими же, как я, сорванцами, и вечно находившегося под подозрением у педагогического начальства, и в классе, и вне класса. При моей изобретательности по части проказ, я нередко стоял на коленях, или в классе, у доски, или в коридоре, у часов с футляром, где, в «большие перемены» «водружались» особенно напроказившие ученики. Благодаря частым наказаниям, я скоро потерял стыд и даже, стоя на коленях, в классе, умудрялся, и продолжать проказы, и тешить ими наблюдавших за ними товарищей. Был одни «педагог» (нарочно ставлю это название в кавычках), который, только войдя в класс, кричал: «Жиркевич! Отправляйтесь на достойное вам место!» Это означало, что я должен был встать со скамьи и отправиться на весь урок, за огромную классную доску, между которой и стеною образовалось полное пыли и паутины пространство. Оттуда я, не унывая, смешил одноклассников, проделывая комичные жесты и гримасы. Тогда, выведенный из терпения учитель, которому я моим поведением мешал преподавать и спрашивать, выгонял меня за дверь в коридор. Ходивший по заведению во время занятий, для поддержания в классах порядка и благонравия, инспектор Н. А. Виноградов, узнав о причинах изгнания меня из класса, «влек» меня к футляру с часами у входной лестницы и «водружал» на колени… Были преподаватели меня ненавидевшие, в числе их и преподаватель математики Н.А. Успенский, который, в виду моих шалостей, неуспехов по его предметам и общей неспособности к математическим наукам, ставил меня во время объяснения урока к доске, у которой с мелом в руках излагал формулы. Преподаватели на уроки, должны были появляться в форменных вицмундирах, синих с золотыми, гербовыми пуговицами (или фраках). И я устраивал себе, стоя на коленях, на потеху класса, следующую забаву: доставал из кармана медный пятак, намазывал его мелом и, когда лютый враг мой Успенский, ходя около доски и набрасывая на нее цифры, оборачивался ко мне спиною, незаметно для него пятнал фалды его фрака намазанным мелом пятаком, так что, к концу урока, платье учителя все было в пятнах. Долго не замечал он моих проделок и торжественно, весь запятнанный, по окончании уроков уходил в учительскую комнату, не понимая, что вызывает улыбки и смех учеников. Но, наконец, мои проделки обнаружились, за что меня «водрузили» в карцер…
Будучи в училище, я вообще не стеснялся в выражении моих чувств и желаний, почему с учениками-поляками, на почве разницы взглядов на русско-польские отношения, у меня происходили столкновения, доходившие до рукопашных схваток, с вмешательством в них надзирателей…
Однажды, во время урока по естественной истории, я не постеснялся попросить у преподавателя, раковину, которая мне понравилась – и он, несмотря на то, что вещь была взята из музея, так растерялся от моей развязности, что тут же, при порицании моего поступка моими товарищами, отдал мне ее.
Когда в Вильне был Император Александр II, то я, воспитанный в русско-патриотической семье, зараженный тем же патриотическим духом с раннего возраста, увидав Государя, проезжавшего в коляске с генерал-губернатором Альбединским, по одной из малолюдных улиц города, так неистовствовал в громогласном изъявлении моих верноподданнических чувств, что обратил на себя внимания Государя, посмотревшего в мою сторону и улыбнувшегося.
Одно время наше училище помещалось на одном дворе с классической гимназией, даже в стенах одних и тех же старинных зданий при Свято-Янском костеле. Отсюда постоянные кулачные бои между «реалистами» и «классиками» на дворе и общих, наружных лестницах, бои, в которых я не только принимал участие, но был зачастую «застрельщиком».
При классической гимназии доживал свой век престарелый, известный всей Вильне сторож Виктор, ходивший в длиннополом сюртуке с неизменной тавменкою с табаком в руках, и с плохо выбритым подбородком. «Во время оно», как у нас, в училище, в насмешку выражались, этот Виктор, по его воспоминаниям, «посекал розгами» многих из наших «педагогов», воспитывавшихся в гимназии тогда, когда в ней применялись еще розги. За такие розги мы, ученики, уважали старика. Он же любил поймать нас, облапить и наколоть нам щеки своим, небритым, щетинистым, подбородком… Виктор жил не один в своей казенной квартире: у него на руках была старая собака, искалеченная, тоже известная всему городу тем, что в один из приездов в Вильну Царя, она нечаянно попала под царский экипаж, была им переехана, но осталась жива. Как говорили, «по высочайшему повелению», бедному животному, из государственного казначейства, была назначена особая пенсия (кажется, по три рубля в месяц), которую получал и на которую содержал собаку-инвалида старый инвалид-сторож. Так как меня особенно ненавидел в училище и преследовал хромой педагог (не хочется назвать здесь его фамилию), то я придумал такую месть: к хвосту хромоногого же пса-калеки прикрепил кусок картона с именем отчеством и фамилией моего недруга. Когда, во время большой перемены, на общий двор высыпали и «реалисты», и «классики», то собака с ярлыком, по обычаю, явилась туда за остатками бутербродов и пирожных, обратив на себя внимание и бродя между учениками, при общем хохоте, пока начальство не сняло с хвоста ярлык. Автора проказы не смогли обнаружить, и на этот раз я остался безнаказанным…
Но, наряду с подобными шалостями, и безобидными, и предосудительного характера, во мне рано стало развиваться и вдумчивое отношение к жизни, особенно в связи с моими религиозными переживаниями и первыми религиозными сомнениями. С детства, в доме родителей, приученный к серьезному отношению к вопросам религии, я долго и в юности сохранял в себе запас религиозных настроений, до тех пор, пока жизнь, люди, время и тут не совершили во мне переворота. Особенно чтил я в юности, мистически, не давая себе отчета в моих чувствах, Виленских мучеников Антония, Иоанна, Евстафия, мощи которых благолепно покоились в пещерной, полутемной, похожей на склеп церкви Свято-Духовского монастыря. Мы одно время жили с бабушкой и с квартирантами-учениками, за Острыми Воротами (в часовне которых помещалась, над воротами, чудотворная икона Остробрамской Божьей Матери, одинаково чтимая и католиками, и православными), в доме протоиерея Гомулицкого, так что, идя в Реальное училище, мне приходилось, по Большой улице, проходить под Воротами и мимо Свято-Духовского монастыря. Бывало, идешь на какой-либо «страшный экзамен» в училище, из-за лени и шалостей, не подготовившись к ряду билетов (спрашивали по билетам, которые мы, ученики, наугад, тянули со стола). И вот, зайдя в пещерный храм Свято-Духовского монастыря, на коленях, со слезами, молишь святых мучеников, чтобы они помогли тебе вытянуть «удачный билет» и не допустили вытянуть билет, по которому не подготовился… И всегда беда меня миновала!..
Кстати, отмечу, что и наша Мамочка чтила Виленских мучеников, часто молясь у их раки и к мощам их прикладываясь… Думал ли я тогда, что когда-либо, в сердце России – Москве, на Петровке, в музее здравоохранения, увижу я те же мощи обнаженными, с оскорбительными надписями, выставленными на посмешище современной черни!!.. А это случилось, в один из недавних моих приездов в «Белокаменную»…
На каникулы, а иногда на Пасху и Рождество, нередко с бабушкою, мы братом уезжали погостить к родителям, особенно, когда казенная ферма лесничего «Бечканы» находилась недалеко от Вильны и станции железной дороги. Несмотря на семейные нелады, мы любили подобные поездки, во время которых имели возможность охотиться, удить рыбу, кататься верхом и предаваться другим деревенским удовольствиям. Летом отец погружался в сельское хозяйство (сенокосы), мать занималась огородами, садом, цветниками, скотом, птицею. Домашние перепалки случались реже, да мы, дети, находясь почти весь день вне дома, их часто и не наблюдали. Семейные скандалы чаще всего закипали за обедами и ужинами, когда все, поневоле, сходились в столовую. Зачинщиком и разжигателем их всегда являлся отец, предварительно делавший визиты к буфету, в котором стоял фамильный графин с водкою, принадлежавший еще Ивану Степановичу Жиркевичу!.. Как мы, дети, ненавидели эти семейные собрания, на которые вынуждены были идти с предвкушением предстоящих скандалов!.. Тяжело, даже и сейчас, на старости, вспоминать об этих, чуть не ежедневных, позорищах!.. Опускаю, с жутким чувством перед тобою, моя Манюточка, занавес…
Кое-как, оставаясь в некоторых классах на два года, с пятерками по «общим» предметам, и с тройками, чуть не из милости, поставленными мне по математике, дотащился я до конца Виленского реального училища, получив вожделенный «аттестат зрелости», дававший право идти в высшее учебное заведение. Но и в этих «высших заведениях» меня, как окончившего реальное училище, заставили бы иметь дело с математикою, к которой я не имел способностей и которую искренно ненавидел. Пришлось сделать еще одну ломку в своей жизни и, бросив мечты о гражданской карьере, пойти на путь моих предков, в военную службу. А тут еще, и по возрасту, я должен был отбывать «всеобщую воинскую повинность». В военное училище, куда ушел брат, по слабости моих математических знаний, я поступить не мог. Был только один исход – поступить в Виленское пехотное юнкерское училище, что я и сделал, благо, в те дни, нас «второразрядников», т.е. окончивших средние учебные заведения, принимали сразу в высший, второй класс, что сокращало пребывание на военной службе в звании нижнего чина. Не долго думая, пробыв недолго вольноопределяющимся в 108 пехотном Саратовском полку, я и поступил на второй курс Виленского пехотного училища, которое через несколько месяцев хорошо и окончил по общеобразовательным предметам, будучи совершенно «штатским» (как выражались юнкера) по строю и воинским уставам. Все это мне пришлось усваивать на практике, после немалых усилий, когда я, по окончании училища, на правах «подпрапорщика» (полу офицера, полу нижнего чина) вернулся в тот же полк.
Мне не хочется, дорогая Манюточка, долго останавливаться, в этих воспоминаниях, на моем пребывании в Виленском пехотном юнкерском училище: тебя, как девушку, не может интересовать вся эта «военщина»!.. Скажу только, что после реального училища, с его свободой и «штатскими» нравами, внезапный переход к грубой, военной дисциплине, к грубым, мало образованным, плохо воспитанным офицерам училища и товарищам-юнкерам, к полу казенным нравам и обычаям, был слишком резок и причинил мне не мало страданий и разочарований. Бабушка же, всегда мечтавшая о том, чтобы я и брат пошли по военной дороге, была в восторге оттого, что я не стал, как она выражалась, «штафиркой», а надел военный мундир. В моих бумагах, оставшихся в Ульновске, есть рукопись не напечатанной повести из юнкерской жизни, автобиографического характера, так как я в ней описываю мое пребывание в юнкерском училище. Она, к сожалению, в черновых набросках. Если рукопись когда-либо попадет тебе и сестрам твоим в руки, то не знаю, будут ли у вас терпение разобрать мои иероглифы и вставки… Да и нужна ли такая работа!.. Все прошло, улеглось в могилы.. Стоит ли тревожить загробные тени?!.)
Но вот, наконец, я и в скромном мундире пехотного офицера прапорщика, который бабушка, любуясь мною, сейчас же ставит «выше иного, гвардейского», так как Саратовский полк имел не мало славы и боевых отличий в прошлом… Передо мною открылись необъятные, таинственно-заманчивые горизонты жизни…
Мне сразу же повезло в том отношении, что я попал в 1-й батальон, уходившей на зимнею стоянку, в г. Ошмяны Виленской губернии, во главе которого стоял старый, боевой служака, благородный человек Нил Васильевич Марков. Ротами командовали тоже хорошие люди и порядочные офицеры Г. И. Гофман и П. М. Длусский. Скоро 2-ю роту, в которую меня перевели, отделили от батальона в местечко Гольшаны, находившееся верстах 15-18 от Ошмян. И я со штабс-капитаном Длусским и нижними чинами роту очутился в глуши, далеко от начальства, нас редко посещавшего, в старинном здании упраздненного римско-католического монастыря, в полу версте от именья мирового судьи А. В. Горбунева, во владении которого находились развалины древнего Гольшанского замка. Я жил дружно с Длусским. Скоро к нему приехала его любовница Елена Ивановна (он меня с нею познакомил, впоследствии на ней женившись). У ксендза костела, жившего на одном дворе с казармами, был сын, которому, за обед, стал я давать уроки русского и французского языков. С ксендзом я тоже скоро сошелся. Из хорошей библиотеки Горбунева возможно было получать книги и журналы, а также текущие газеты… Местечко было глухое. Общества – никакого! Развлечения отсутствовали… Эта обстановка заставила меня предаться служебным интересам и заняться, благодаря обилию досугов, моим самообразованием. Я стал вести дневник и писать рассказы охотничьего содержания, которые посылал в журнал «Природа и охота», где они и печатались, не принося мне гонорара, а лишь давая право на даровое получение журнала. Я был молод, пользовался хорошим здоровьем и прекрасным сном и аппетитом. Вспоминая благодарно пребывание мое в Гольшанах, могу, положа руку на сердце, охарактеризовать его, как «счастливый» период моей жизни…
Кое-как «подтянувшись» по строю, я, будучи младшим офицером роты, помогал ротному командиру в строевом обучении нижних чинов. Кроме того, на меня были возложены занятия с малолетними солдатиками в ротной школе, начаткам грамоты и арифметики… Я стал устраивать с ротой чтения и беседы на обще образовательные темы, по собственной инициативе, хотя и с разрешения начальства. Приехав в Гольшаны «подпрапорщиком», только тут, будучи произведен в первый офицерский чин прапорщика, я из моего скудного содержания стал помогать материально беднейшим нижним чинам роты. Недавно, перебирая мои старые бумаги, я наткнулся на уцелевшую каким-то чудом одну из записных книжек моих, в которую заносил подобные вспомоществования. И сколько, при этом, нахлынуло на меня воспоминаний!..
Не помню, говорил ли я тебе, дружок, о том, что знакомство в глубоком детстве, с денщиком Корнеичем и другими нижними чинами той артиллерийской батареи, в которой служил мой отец, навсегда заронило во мне любовь и симпатию к русскому, простонародному человеку… С годами эта симпатия во мне только укреплялась и получила лично для меня огромное, воспитательное значение. Меня неудержимо, часто безотчетно, силой тянуло к старым представителям этого народа. Когда отец мой служил лесничим и жил на казенных фермах, по захолустьям, лучшими моими приятелями были мужички из соседних деревень и лесники, съезжавшиеся в усадьбу по делам службы, помогавшие мне в моих охотничьих предприятиях…
Вторая рота скоро обратилась для меня в благодатную почву, на которой я мог изучать русского солдата и сближаться с ним, конечно, на столько, насколько позволяло мне мое привилегированное, офицерское положение.
Грустным диссонансом врезалось в мою счастливую, гольшанскую жизнь событие 1-го марта 1881 года, заставившее скорбно зазвучать патриотические струны моей молодой, впечатлительной души. Меня, помню, поразило то равнодушие, с каким нижние чины встретили объявление им о смерти Царя – Освободителя. Нас, нашу роту, в страшную, весеннюю распутицу, водили в г. Ошмяны, для присяги новому Государю. А там, перешли мы и на зимнюю стоянку, в г. Вильну. Этим не закончилась моя деревенская идиллия. Началась служба в караулах, знакомство с остальным офицерским составом, с городским обществом и т.д.
Как это ни покажется тебе странным, военная служба привела меня к соприкосновению с миром отверженных, заключенных… Мир этот почему-то, с детства, приковывал к себе мое внимание. Как и почему? – Не могу дать тебе сейчас определенного ответа. Несомненно, однако, что тут сыграло роль отношение матери и бабушки, смотревших на арестантов по-простонародному, как на «несчастненьких».
Помню, с каким ужасом и негодованием, бабушка моя рассказывала о том, как на ее глазах, во время прогулки, в молодости, тюремная стража жестоко избила бежавшего арестанта, попытавшегося бежать. Но тут же бабушка, как бы и оправдывала подобное избиение тем, что, если бы арестанта не изловили, прозевавшая его побег стража ответила бы по суду. Невольно, помню, у меня, ребенка возник вопрос: но ведь его поймали! Так зачем же было бить до полусмерти? На это бабушка уклончиво отвечала, сторожа озлобились… А во мне уже жила жалость к этому, неведомому мне арестанту, который рвался на свободу, и так жестоко пострадал…
Мать моя была, несомненно, добрая, отзывчивая на чужое несчастье, женщина. Я постоянно, с детства, наблюдал постоянные примеры ее милосердия и благотворительности. Когда мы с нею, во время прогулок, проходили мимо партий работавших каторжников, она давала мне «копеечки», чтобы мы сунули их, незаметно от стражи, «несчастненьким». Мы делали это с некоторым страхом: как бы эти люди в сером платье, в кандалах, с «бубновыми тузами» на спинах, не причинили нам вреда?..
Но и тут врезалось мне в память и до сих пор живет противоречие в отношениях мамы к арестантам. Когда мы жили в доме Говена во время одной из прогулок, нам навстречу попался возок, а в нем сидевший жандарм, везший какого-то чиновника. Чиновник этот был мамин знакомый, который, увидя маму, приветливо с нею раскланялся. Она же сделала вид, что его не замечает. Я начал расспрашивать маму: кто этот арестованный? Куда его везут под конвоем? Почему мама не ответила на поклон его? Мама сказала, что этот чиновник хотя и был с нею знаком, но совершил растрату казенных денег, что его везут в ссылку, и кланяться с ним было бы неосторожно. «Но почему же? Почему?» приставал я с допросами, неудовлетворенный таким ответом: «Раз он несчастненький, то надо его жалеть!..»
Недавно еще видел я, как мама обласкала свою приятельницу, старую сумасшедшую еврейку, в лохмотьях, которую вечно преследовали, дразня, ругая, насмехаясь и бросая в нее грязью каменьями, ужасные мальчишки. В одной маме эта несчастная видела защитницу, покровительницу, всегда готовую приласкать ее и накормить. Страшная женщина только к моей матери подходила доверчиво и любовно гладила ее по лицу своими грязными, костлявыми руками… Так почему же мама, такая милосердная к сумасшедшей, так безжалостно отвернулась от своего знакомого, впавшего в несчастье?!.
Ряд вопросов, связанных с тюрьмами и томящимися в них узниками возникал в моей детской головке, при чем окружающие на них отвечали или уклончиво, или так, что не разрешали моих сомнений. Для меня было ясно только одно: люди от людей за что-то страдают и, как говорила иногда мать, «может быть, и безвинно, за других…»
С жизнью доктора Гааза я, к стыду моему, познакомился лишь тогда, когда, особым изданием об этом тюремном филантропе давно минувшей эпохи, вышло особое исследование А. Ф. Кони, который и прислал мне с надписью, называвший меня «последователем д-ра Гааза» (это было сравнительно недавно). Я, с полной искренностью, ответил уважаемому автору удивительно симпатичного очерка замечанием, что стал облегчать участь заключенных, особенно же военных, гораздо ранее, чем узнал и существовании доктора Гааза и его подвигах на благо узников…
Мне, как офицеру, вскоре по приезде из Гольшан в Вильну, пришлось бывать караульным офицером и в местной каторжной тюрьме, и в других местах заключения города, а также на местной главной военной гауптвахте (в здании № 14 бывшей Виленской цитадели). Во время обхода камер с заключенными я стал беседовать с ними. Некоторые каторжники, с разрешения начальства, продавали свои изделия. Под предлогом покупки у них их работ, я вызывал их в свою караульно-офицерскую комнату, чтобы расспросить их о тех преступлениях, которые привели их к кандалам, за решетки и замки. При этом, передо мною, все более и более развертывался новый, до того неведомый мне мир неописуемо тяжких человеческих страданий, в котором и я, в качестве караульщика-офицера был повинен.
На эту тему я мог бы написать тебе, дружок, огромное исследование с описанием моих душевных, тюремных переживаний и, все-таки, ничего не сказать, ни чем не заключить мои воспоминания. Но ты, вероятно, не забыла, что с раннего твоего детства, в доме нашем, у меня с Мамочкой шли разговоры о моей борьбе за интересы узников, наконец, о том, сколько тупого противодействия и враждебного, до злобы, отношения к моим начинаниям, встречал я со стороны всякого рода начальства, и военного, и гражданского около вопросов, связанных с местами заключения и узниками. А потому позволь мне на эту тему более не распространяться!.. В моем личном архиве, пожертвованном в Толстовский музей, хранится немало документов, свидетельствующих, кем я был на этом крестном пути моем, каких добился результатов и в каких боях со злобой, неправдой покойной бюрократии потерпел поражение. Часть моих душевных переживаний я изложил в моих печальных исследованиях «Пасынки военной службы» и «Гауптвахты России должны быть немедленно преобразованы…». Мною подготовлялась и третья часть того же труда, посвященная уже не гауптвахтам, а дисциплинарным батальонам. Революция, открывшая двери этих ужасных, позорных мест заключения, сделала ненужным труд мой, но собранные мною материалы о тайнах этих мест заключения, особенно же о тюремных наказаниях, в них широко практиковавшихся, и теперь не утратили своего, общественно-исторического значения. Может быть, кто-нибудь ими воспользовавшись, помянет еще и мою филантропическо-тюремную деятельность теплым, благодарным словом… А не помянет – и не надо: совесть моя спокойна, и мне есть, что «вспомянуть перед кончиною» («Астры» Апухтина).
Я не долго пробыл заурядным офицером. Меня, как хорошего строевика, скоро назначили в полковую учебную команду, подготовлявшую унтер-офицерский состав, а, затем, и полковым адъютантом, с каковой должности я пережил еще один крутой перелом в жизни, уйдя в Александровскую военно-юридическую академию.
На положении полкового адъютанта, будучи совсем еще юным, неопытным в жизни, молодым офицером, я сделался, на правах ротного командира, начальником музыкантской, барабанщицкой и писарской команды, в составе которых насчитывалось немало сверхурочных служащих унтер-офицеров, по возрасту годившихся мне в отцы…
Должность полкового адъютанта, считавшаяся почетною, требовала от офицера большого такта и уменья уживаться: адъютант становился как бы посредником между командиром полка и обществом офицеров, по большей части весьма пестрыми, как это и бывало во всех армейских частях.
На положении полкового адъютанта я начал борьбу с процветавшим в полку «мордобийством»! Но об этом долго было бы тебе, моя Манюточка, рассказывать!..
Военно-юридическая Академия, с ее интересным, обще-образовательным и специально военно-юридическими курсами, с ее выдающимися профессорами, относившимися к слушателям-офицерам, как к равным, с ее свободой, явились, после строевой муштры и канцелярского адъютантства, чем то небывалым, вводившим меня в новый для меня мир науки и облегчения участи заключенных, на почве военно-судебной деятельности. Три года пролетели для меня, как сон. Жизнь в Петербурге сблизив меня с моей интеллигентною родней, ввела меня в круг выдающихся художников, писателей, ученых, артистов, общественных деятелей… А, главное, у меня впереди яркой путеводной звездочкой сияла надежда на любовь Мамочки, на счастье семейной жизни с нею…
Теперь я вернусь, прервав это длинное отступление, к тому, что представляла из себя наша семейная жизнь…
Много разного рода неудобств, осложнений и беспокойств в нашу семейную жизнь вносили часто сменявшиеся гувернантки – француженки, среди которых, как бы исключение представляла Забега, пожилая француженка, вдова, которую, может быть, и ты, Манюточка, еще помнишь.
При ней то, даже благодаря отчасти ей, и случилась у нас первая, крупная семейная катастрофа – смерть нашей прекрасной, юной Варюшечки.
Мы отпустили m-me Забегу с тобой, Гулей и Варюшей в Карльсберг, погостить у дяди Андрюши в его семье. На беду там оказалась другая, более молодая, француженка. Обе компаньонки сошлись друг с другом и, вместо того, чтобы заниматься вверенными их попечению детьми, проводили приятно время в болтовне. Во время одной из игр в парке, Варюша заснула; при чем ей солнцем так напекло голову, что она, проснувшись, стала заговариваться, не будучи в состоянии дать себе отчет в том, где она, что с нею и т.д. Вместо того, чтобы пригласить врача, девочку уложили в постель, где она пришла в себя, а происшедшее от нас, ее родителей, скрыли. Со времени возвращения (мы жили тогда на даче под Вильной), Варюша все прихварывала. Мы не могли угадать причину ее недомоганий, пока Гулеша не проговорился, что «в Карльсберге Варюша сходила с ума» и не рассказал о подробностях происшествия. Тут Варюше становилось все хуже и хуже. Дача наша стояла в сырой местности. Все время шли проливные дожди, увеличивавшие общую сырость глинистой почвы. Пригласили из Вильны врача и тот, в виду подозрительности симптомов заболевания, посоветовал перевезти, осторожно, в коляске, больную в город, что Мамочка и сделала сама со всевозможными предосторожностями. Собравшийся консилиум лучших врачей Вильны определил наличность у ребенка туберкулеза мозга. И вот, после месяца борьбы за жизнь Варюши, нам пришлось похоронить ее на Виленском лютеранском кладбище, где были погребены уже мой отец и Боря, и где с годами образовалась фамильная усыпальница семьи Жиркевичей, куда и ты, в детстве, ходила посидеть, поиграть у родных могилок…
Варюшу ты едва ли помнишь. Это была удивительно даровитая, много обещавшая девочка, с чутким, любящим природу и животных, особенно собак, сердечком, обещавшая вырасти такой же, какой была Мамочка. Не даром Мамочка наша, наблюдая за ходом духовно-нравственного роста своей дочки, любила говорить: «C’est ma terre promise!» («Это моя – обетованная земля»).
Если ты, Манюточка, сохранила воспоминания о своем детском пребывании в Вильне (и Смоленске – позднее), то, вероятно, тебе рисуются: прекрасная, увешанная чудными картинами, уставленная дорогой мебелью и предметами старины, квартира, твоя хорошо обставленная детская, твои игрушки, книги, безделушки и …. наша дорогая Мамочка, тебя ласкающая, заботящаяся о твоих детских нуждах, удобствах, радостях, о твоем образовании… Не вспоминаются ли тебе звуки нашего прекрасного Беккеровского рояля (подарок Мамочке, в день ее совершеннолетия от дяди Андрюши, которому она, по тому же случаю, подарила дорогой микроскоп), инструмента, на котором играет наша Мамочка, или одна, или в четыре руки с «Тетей» В. И. Пельской? Быть может, у тебя в памяти еще сохранились посещения нас другом моим знаменитым художником Василием Васильевичем Верещагиным и то, как он, поднося тебя на руках к отдельным картинам, учил тебя, как вкусно высасывать виноград и как шумят, перекатываясь волны Черного моря на картинах, висевших на стенах. Мы в шутку звали тебя, маленькую, не очень красивую, с особым выражением смуглого, серьезного не по детски личика «Марфушечкой». И Верещагин, в письмах ко мне с дороги, упоминает о тебе в том смысле, что тебя ему не хватает… А потом и он погиб под Порт-Амуром, в войну с Японией, на «Петропавловске».
Не знаю, при тебе ли гостил у нас, в Вильне, другой мой друг художник И. Е Репин, с сыном Юрою, впоследствии тоже известным художником, проездом в Италию?..
Я забыл упомянуть выше, о кончине Варюшечки, о том, что третий мой друг, художник С. Ф. Александровский, по фотографии, прекрасно разрисовал портрет Варюши на смертном одре, но, за смертью, не успевшего его окончить. Портрет этот вместе с пастельным портретом Гули, работы художника Лейбовского, хранится в особом портфеле с другими портретами, оставленном мною в Ульяновске, вместе с перепиской о смерти Гули и другими фамильными нашими реликвиями, в одном из сундуков.
В настоящих, беглых заметках, мне не хочется касаться чего-либо, не связанного с фамильными нашими преданиями, с вашим детским существованием. Скажу только, для полноты настоящей «памятки», что в Вильне и Смоленске, куда меня перевели за столкновение с высшим начальством по делу об убийстве в сумасшедшем отделении, здорового душевно, отставного жандарма Николаева, я находился в непрерывной борьбе за старину, за правду, за заключенных, за интересы раненых солдат – жертв войны.
Мамочка не всегда понимала те мотивы, которыми я руководствовался в стычках с врагами правды, порядка, «униженных и оскорбленных». Но она всегда веровала в то, что я не начинал «историй» без достаточно основательных мотивов и всегда, в трудные минуты моей жизни, она нравственно меня поддерживала и одобряла. После разного рода неприятностей по службе и в обществе, возвращаясь домой, я, позвонив у входной двери, всегда знал, что встречу дома покой, уют, ласку и любовь, что навстречу ко мне выйдет Мамочка и выбежите, с радостными, приветственными криками вы, мои детки… Перевод меня в Смоленск, неожиданный и несправедливый, на некоторое время, разрушил мое семейное благополучие, оторвав меня от Вильны. Мамочка, привыкшая к Вильне с детства, имевшая здесь немало родных, друзей, добрых знакомых, долго не могла примириться с мыслью о том, что ей придется покинуть город, быть может, навсегда. К тому же она была беременна Тамарочкой и, без меня, тяжелее переносила это состояние. О рождении «Веньямина нашей семьи» я узнал из телеграммы (успокоительной) доктора Петрашкевича, и сейчас же, частным образом, поехал в Вильну, где и застал Мамочку еще в постели, а около нее нашу Тамарочку, прекрасную даже в раннем возрасте. Пришлось, однако, скоро вернуться в Смоленск. А к весне я нанял дачу в чудном (по живописной местности), именье «Вонлярово» Вонлярлярских – Игельштромов, недалеко от Смоленска, у полустанка «Вонлярово». Здесь, по приезде Мамочки с Гулей, тобой и Тамарочкою, а также с няней Михалиной, мы и устроились на лето, а потом провели здесь же, на даче, и следующие два-три лета. Несмотря на прекрасный парк, дивные окрестности и любезность владельцев именья, все здесь первоначально не понравилось Мамочке, грустившей по Вильне. И, действительно, в именье, нанятое мною под дачу, строение в парке было не благоустроено, требовало много стараний для того, чтобы придать ему вид обитаемого жилища. Однако, понемногу, мы сошлись с владельцами именья и другими дачниками, жившими на противоположном конце парка-леса, а Мамочка, обладавшая хорошим голосом и музыкальностью, стала петь в церкви, во время богослужений, в хоре, составленном одной из владелец именья М. А. Вонлярлярской. Это примирило Мамочку с судьбою. Когда же мы переехали в город и удобно устроились в хорошей квартире (в доме Залеского), куда были доставлены из Вильны наши вещи, когда я ввел Мамочку в дома Смоленского дворянства, с которыми сошелся до ее приезда, то Мамочка примирилась с судьбою, и мы зажили прежней, счастливою, семейной жизнью, поддерживая связь и с Вильной.
Ты, Манюточка, надо думать, не забыла еще Смоленска и о том, как хорошо нам жилось в нем несколько лет, до той поры, как мне удалось добиться возвращения в Вильну, уже с чином генерала, на положении военного судьи.
Вильна встретила нас так радушно и радостно, точно мы из нее и не выезжали. Здесь мы жили до самого бегства нашего, в 1915 году, от германцев, на Набережной, в доме Мяновской, сначала в квартире 3-го этажа (с балконом и видом на Вилию), а, затем, в нижнем этаже.
Тут, к семье нашей, прибавился новый друг – собачка, породы таксы, «Масютка», которая до самой смерти своей в Симбирске (Ульяновске), преданно разделяла с нами все невзгоды, связанные с революцией.
Я забыл упомянуть о том, что, когда вы все переехали ко мне, сначала в Вонлярово, а потом в Смоленск, то привезли с собою моего преданного, умного, талантливого друга «Дружка», собачку, которую на глазах Ваших, детей и няни Михалины, задушила пастушья собака, во время одной из ваших прогулок по окрестностям.
По возвращении в Вильну, я недолго пробыл военным судьею (всего шесть месяцев; из них три – в отпусках), так как принужден был оставить военную службу, службу в военно-судебном ведомстве, из-за того, что когда я ознакомился с секретной литературою, имевшейся в Виленском военно-окружном суде, то отказался вешать революционеров под давлением секретных циркуляров Министерства Внутренних дел и Главного Военно-Судного Управления. Про этот эпизод из моего боевого прошлого я не буду здесь писать подробно, так как у тебя, дорогая Манюточка, имеются данные, копии с официальной переписки (это было в 1908 году). Уход со службы с видного поста военного судьи, оплачивавшегося пятитысячным окладом содержания в год, с переходом на положение отставного военно-судебного генерала с убогим пенсионом (так как, в общем, я служил недолго), конечно, сразу же подорвал наши семейные финансы. Тем не менее, Мамочка, зная о причинах ухода моего из военно-судебного ведомства, вполне одобряла мои чувства и поступки. Это являлось величайшим для меня утешением в моих душевных тогдашних переживаниях. Поддерживал меня, в те дни, и Гуля, уже юноша, сознательно относившийся к жизни и разделявший мои взгляды, симпатии и антипатии.
Надо тебе заметить, что из Гули, при его всесторонних дарованиях, на моих глазах, рос русский офицер-гражданин, которому я мечтал со временем передать в наследство все коллекции моих картин, старины, бумаг, альбомы с автографами, так как он все это любил, ценил, а, при приездах в Вильну из Морского корпуса, пересматривал и приводил в должный вид и порядок… Кто мог тогда думать, что мы с Мамочкою, сравнительно скоро лишимся навсегда этого могучего, прекрасного, и по наружности, и по душевным качествам, цветущего, полного веры в себя и надежд на будущее, юношу, наше счастье и гордость! А, между тем, это так и случилось…<…>
Покойный наш Гуля, как это ни странно со стороны мальчика, более чем со мною, сошелся с Мамочкой, и в приезды свои к нам, ей поверял свои мечты и планы на будущее. С вами, своими сестрами, как и со мною, он не сходился. Мои интересы, как и ваши, были ему чужды. Приезжая домой, он сначала был всегда радостен, оживлен, всем интересовался, а, затем, начинал скучать в обстановке нашей мирной, семейной жизни: его тянуло к морю, к плаваньям, к товарищам, к Петербургу, к новым, сильным впечатлениям. Хотя он всех нас и любил, но по своему. И, прогостив у нас, он, надо думать, с радостью садился в вагон, чтобы вернуться к молодой, полной свежих впечатлений, столичной жизни… И, действительно, разве мог удовлетворить его жажду жизни, новых встреч, наш мирный семейный очаг, к которому, по праздникам, присаживались доживающие свой век старики и старушки?!. Мы с Мамочкою не могли этого не понять и, хотя грустили, не будучи в состоянии дать пищу уму и сердцу нашему любимцу, но угадывали стремление покинуть домашний кров…
Помню тебя еще грудным ребенком, настойчиво, в минуты голода, требующим себе груди, что приводило в восторг m-me Забегу, усматривавшую тут особые настойчивость, упрямство характера. Когда ты стала подрастать, Мамочке приходилось бороться суровыми мерами, вплоть до насильственного вытаскивания тебя в другую комнату или постановки в угол. Гуля любил подсмеяться над этой стороною твоего характера. В нашем фамильном архиве должна сохраняться его карикатура, на которой он изобразил тебя и сестер твоих, на даче, поставленных к соснам носами с криком «Au coin!» («В угол!»).
Все это не мешало Гуле, во время семейных наших прогулок, играть, шутить с вами, устраивать вам разные сюрпризы. Вы очень ценили эти приливы его, столь редкого к вам внимания.
Из всех моих детей, ты, дорогая Манюточка, с детства твоего, напоминала и сейчас напоминаешь мне нашу незабвенную Мамочку-Мурочку, по росту, фигуры и профилю, особенно по оригинальному носику, а отчасти по скрытности, замкнутости характера и особой выносливости, физической и нравственной. Когда ты стала подрастать, у тебя были умные, несколько раскосые глазки, задумчивое часто меняющееся выражение личика, с устремленным куда-то вдаль задумчивым, не детски серьезным взором. Ты, как и Мамочка, не любила впускать к себе в душу. Когда ты совершала какой-либо проступок или шалость, то, хотя и бывала виновна, не любила раскаиваться, просить прощения и т.д. У Мамочки, относительно тебя, выработалась особая система воздействия, суть которой заключалась в том, чтобы, не насилуя твоей воли, дать тебе самой одуматься и успокоиться. Насколько помню, ты никогда, в детстве и юности, не сходилась с сестрами, особенно с пылкой, часто действовавшей под впечатлением минуты, с «душой нараспашку», хохотушкой Катюшей (говорю про ваши ранние годы). У Катюши с годами, тоже выработался характер, только совершенно особый, от ваших с Тамарочкою характеров.
Я, кажется, говорил уже выше, что Мамочка придавала огромное значение, что она не жалела средств, для того, чтобы научить вас иностранным языкам, музыке, пению, рисованию, дать вам лучшие пособия при обучении вас в учебных заведениях ведомства учреждений Императрицы Марии, снабдить вас подходящею, воспитательно-образовательною литературою, для легкого, внеклассного чтения. У каждой из вас, с годами, образовались свои библиотечки из книг на русском и иностранных языках. Много, для приучения вас к порядку, чистоте, рукодельям, бережному обращению с книгами и вещами, сделала для вас жившая в нашем доме несколько лет подряд «фрейлейн Маргарита Вержбицкая», научившая вас свободно читать, говорить и писать по-немецки… Мамочка же, прекрасно знавшая языки французский и немецкий, занималась с вами переводами с этих языков на русский и обратно.
Если ты, мой светик, и по наружности, и по многим чертам характера, напоминаешь мне Мамочку, то Катя, как принято выражаться, пошла в Жиркевичей, особенно походя во многих отношениях на своего прадеда Ивана Степановича Жиркевича, с ее неуживчивым, открытым, не идущим на уступки и компромиссы, вспыльчивым, неспособным смолчать лицом к лицу с неправдою, характером, при ее золотом сердце, любви к ближним и трудоспособности.
Наша милая Тамарочка, ни по наружности, ни по характеру, не похожа на наших предков с Мамочкиной или моей стороны. Надо предполагать, что она пошла в линию Мамочкиных предков женского характера.
Гуля же был какой-то особенный, мною неразгаданный. Я отказываюсь, и сейчас определить его несколькими словами. В нем поражала удивительная, красивая, духовная уравновешенность… Иногда, задолго до его смерти, я, глядя на его духовный рост, в тайне говорил себе: «Такие, как он, долго не живут на свете!..»
Так как Мамочка, в основу вашего воспитания и образования, по искреннему, глубокому убеждению, клала православную религию, то, касаясь в настоящей памятке нашего семейного прошлого (о чем я никогда еще не писал и не рассказывал), я считаю не лишним коснуться того религиозного духа, который я застал в семье Мамочки, задолго до свадьбы, когда жив был еще престарелый П.В. Кукольник, а я только мечтал стать когда-либо обладателем того совершенства, каким, по сравнению с другими девушками ее круга, была Мамочка.
Тетя была всегда глубоко религиозна и в узко православном смысле этого определения, и как деятельная, по заветам Евангелия, христианка. Подобную религиозность она сумела передать и Мамочке, уже подготовленной к этому и домашней обстановкою родителей, и фамильными традициями своих предков – Кукольников – Пузыревских, в семьях которых обрядовое православие было поставлено в основу всей жизнедеятельности.
Также, в том же духе и направлении, был религиозен и «дедушка» П. В. Кукольник.
Но так, как его предки были униатами, то есть соблюдали, на ряду с православными обычаями, и обычаи римско-католической церкви, и так как предки Пузыревских были когда-то католиками, то и до свадьбы, и женившись, в доме Мамочки, на ряду с православными обычаями, я наблюдал и следы римско-католических преданий (традиций). По примеру своих предков Кукольников – Пузыревских, Мамочка, например, в Сочельник, устраивала особую «вечерю»: под скатерть, на стол, подкладывалось сено (в память того, что Христос родился в пастушьих яслях), прислуга садилась за один стол с господами, а на стол, одно за другим, подавалось, чуть ли не четырнадцать блюд, рыбных и сладких. Мало того, в православный дом, при православных иконах, крестных знамениях и молитвах, подавалась «облатка», употребляемая в костелах при обряде причащения; эту облатку, старший в доме ломал на части, по числу присутствовавших на «вечере» («трапезе»), и кусочки тут же съедались с благоговением Мамочка так почитала подобный семейный обычай, что соблюдала его накануне Рождества, до самой своей смерти, через знакомых добывая от ксендза нужную облатку.
Сделавшись мужем Каташечки, я застал, в доме ее и Тети, в память усопшего «дедушки», семейный обычай, которому он предавал особое значение, накануне праздников, при собрании всех домочадцев, вслух читать избранные места из Библии. В первое время Тетя и меня старалась приобщить к таким семейно-религиозным чтениям. Но я, будучи врагом всяких религиозных упражнений, по команде, по заказу, возмутился такими порядками, отказался им подчиняться, – и традиционные чтения Библии, к огорчению Тети и Мамочки, а к моему удовольствию, прекратились, притом навсегда.
Еще до женитьбы я стал охладевать к обрядам Православной, казенно-бюрократической, далекой от Евангелия, церкви и, если соблюдал их, то, как состоящий на военной службе, во исполнение общих, начальственных распоряжений (причащался, исповедовался, в табельные дни ходил в собор и т.д.). Женившись, я, не желая огорчать Мамочку, раза два, заставил себя отговеть. На днях, перебирая мои старые дневники эпохи моей молодости, я натолкнулся на запись, в которой, говорится о том, как я огорчил Мамочку отказом идти на исповедь. Видя, что никакие резоны и просьбы ее не действуют на меня, она перестала настаивать, заплакала и отошла от меня со словами: «Я на половину тебя потеряла».
Сам, отколовшись от обрядностей православной церкви, я не мешал Мамочке действовать в смысле привлечения вас, детей, к этим обрядам. Тем не менее, вы, дети, подрастая, начинали чувствовать разлад между родителями на этой почве, задавая мне, при Мамочке вопросы: «Почему ты не постишься?» – «Отчего ты не исповедался, не причащался в этом посту?», и т.д. Приходилось дипломатничать, вывертывать, уклоняться от прямых ответов… И вы догадывались, что я говорю не искренно…
Ко времени Мамочкиной смерти, одна Катюша ревностно посещала церковь и исполняла все религиозные обряды. Ты, Манюточка, уже охладела к обрядовой религии. Тамарочка же, как более юная, относилась к религиозным вопросам безразлично. Мамочка, конечно, все это видела и приходила в уныние. Она, всегда столь осторожная по части осуждения, не раз, указывая мне на ваше охлаждение к церкви, упрекала меня в том, уверяя, что это – результат моего дурного примера, который я подавал вам, детям, моим отпадением от обрядовой церкви. Но не мог же я лгать – идти на исповедь и причастие, когда это меня духовно не удовлетворяло, не сближало с Христом?!.
Когда Мамочка наша умирала, тебя, дружок, к сожалению, при этих священных минутах не было. Уже слабая, переходя в сон, Мамочка благословила и поцеловала Катюшу и Тамарочку. Видя, что она не делает того же относительно меня, я попросил ее благословить и меня. Умирающая была в полном сознании, улыбнулась счастливой улыбкой и перекрестила меня, при чем я должен был наклониться к ее груди, на которой лежала ее рука, так как она уже не была в состоянии поднять ее высоко для того, чтобы осенить меня крестом. А я поцеловал ее горячую ручку. Что означала эта улыбка? Быть может, радость, что ее смерть приводит меня к выполнению церковных обычаев?!.
Я редко встречал в жизни кого-либо другого, кто знал бы так хорошо священное писание, особенно же Евангелие, как наша Мамочка, кто ознакомлен был бы так, как она, и с литературой по толкованию отдельных мест Евангелия. Нередко, когда мне нужно было делать ссылки на Евангельские тексты, я обращался к Мамочке, и она сейчас же, в Евангелии, отыскивала требуемое место.
Вообще, у Мамочки была феноменальная память, от того-то так легко давалось ей изучение иностранных языков.
Мамочка рассказывала мне, что в юности ее очень огорчило, когда ее не отдали в учебное заведение, а стали, с помощью светских учителей и священника-законоучителя, проходить с нею главные предметы на дому. Мамочка прошла их, и при домашнем образовании знала их основательно, образцово. Жажда знаний у нее наблюдалась до самой ее смерти. Уже не вставая с постели, она читала иностранные книги, при помощи словаря, т.е., опять-таки училась…
Замечательная память Мамочки давала ей возможность знать наизусть всю обедню и главные молитвословия и песнопения молебнов, панихид. Все обряды имели для нее значение не только мистическое, но были внутренне озаряемы глубоким религиозным смыслом, почему она и участвовала в них с трогательным, захватывающим умилением. Мамочка веровала во все чудеса, по тексту Евангельскому, совершавшиеся Христом, в Его Воскресение и Вознесение «во плоти» на Небо. Веровала она и в исцеляющую силу некоторых «чудотворных» икон, крестов с мощами, вообще мощей угодников, святых. Особое значение она придавала тому кресту с мощами, который сейчас находится у тебе, дорогая Манюточка. Почему и прошу тебя хранить эту «реликвию», как нашу фамильную святыню!.. Крест этот принадлежал «Тете» В. И. Пельской, и она его подарила Мамочке. Тетя же унаследовала его от своего мужа, по матери, кн. Трубецкой, получившего его из рода Трубецких. Мамочка твердо веровала в то, что этот крест, находясь при больных и умирающих, первым принесет исцеление, а вторым – облегчит предсмертные муки и переход в «жизнь вечную»!.. Крест всегда укладывался Мамочкою под подушки всех вас, когда вы заболевали, и других членов нашей семьи и родни. Мало того, Мамочка, узнавая об опасной болезни соседей по домам, где жила, и их детей, посылала туда крест, с советом положить под изголовье «болящего» или «болящей». Крест этот лежал и под подушкой Мамочки во время ее болезни и смерти. Она к нему часто прикладывалась. У постели Мамочки всегда висели, в числе других икон, две иконки, копии, сделанные В. И. Пельской, – Серафима Саровского и Божьей Матери (с младенцем Иисусом «во чреве»»), которые очень чтила и к которым прикладывалась по утрам, вставая ото сна, и по вечерам перед сном, устами и лбом, так что на них и сейчас, от этих приготовлений, сохраняются пятна. Иконки спрятаны мною в один из сундуков, оставшихся в Ульяновске. Когда Мамочка слегла окончательно перед кончиной, по ее желанию, на столик у ее кровати, был поставлен складень, из трех частей, принадлежавший архимандриту Зосиме, подаренный ему Императрицей, снятый мною с его груди, когда он лежал в гробу. Мамочка очень ценила эту святыню, и когда складень стоял со всеми другими нашими иконами, зажигала перед ним лампадку (пока у нее были средства на такую роскошь…). Ценила она и три мои фамильные иконы, когда-то принадлежавшие моему деду Ив. Степ. Жиркевичу: 1) изображение святителя Тихона, присланное ему из Воронежа (кажется, архиепископом Антонием); 2) икона Божьей Матери исцелительницы, с надписью на обороте масляными красками с перечислением наших предков «Жирных» (так одно время, звали себя они, скрывая свое польское происхождение) и 3) икона Смоленской Божьей Матери, которую Ефросинья Львовна Жиркевич, перед смертью, благословила Ивана Степановича (на всех иконах имеются соответствующие надписи). Мамочка придавала особое значение тому, что все эти иконы, разошедшиеся после смерти Ивана Степановича по родным, сошлись, через много лет, у меня, как у старшего в роде Жиркевичей. Две первые иконы находились у дочери Ивана Степановича, Зинаиды Ивановны Ган (родной сестры моего отца). После их смерти, я выпросил их у не придававшего им никакого значения сына ее Володи Гана и, когда моя сестра выходила замуж за Травина, отдал их ей, верующей, религиозной. Уехав из Вильны, с мужем, она должна была бросить его, оставив все свои вещи, в том числе и упомянутые иконы, у него. В ярости он все это выслал ей по железной дороге в Вильну. Она же, не желая иметь с ним что-либо общее, отказалась взять их из багажа. Поэтому вещи, как выморочные, за хранение которых в багаже не было уплачено Машей, продавались с аукциона, при чем знавшие меня железнодорожные жандармы, увидав, из переписки, бывшей в вещах, что вещи принадлежат моей сестре, предупредили меня о двух фамильных иконах, которые, затем и отдали мне. А икону Смоленской Божьей Матери подарили мне родственники, когда я поселился в Смоленске и с ними познакомился. Таким образом, три наши фамильные иконы, точно чудом (а в чудеса Мамочка веровала) сошлись у меня и одно время (когда мы жили в Вильне и в Смоленске) помещались с другими семейными иконами и реликвиями у Мамочки, в спальне (детской) в старинном, из красного дерева, киоте, подаренным ей «Тетей» Пельской. Перед этим киотом Мамочка, иногда даже вставала по ночам, усердно молилась, становясь, на особом коврике, вышитом Тетей, на колени и кладя земные поклоны.. Все эти иконы хранятся ныне в Ульяновске в сундуке. Религиозность Мамочки никогда не была напускной или показной: и тут во все она вкладывала особый религиозно-жизненный смысл.
С детства вашего Мамочка и в вас старалась прочно заложить ту же веру, которая не только теплилась, но пылала в ее душе, приучая вас к хождению в церковь, к вечерним и утренним молитвам на дому. Когда вы укладывались в постельки, она непременно приходила еще раз перекрестить вас, иногда спящих (если поздно возвращалась домой от гостей или с концерта). Покойный Гуля, будучи ребенком, особенно ценил такие посещения горячо любимой им Мамочки. У него, по поводу их, даже сложилась, особая, трогательная, поговорка: «Мамочка! Приходи меня поцеловать, но не тогда, когда я буду спать!»
Вообще, между Мамочкой и Гулей поддерживались самые дружеские, сердечные отношения – до его смерти. По всем признакам, не смотря на влияние матери, и он стал, с возрастом, уклоняться от исполнения церковных обрядов. Но, щадя религиозное чувство матери, не желая ее огорчать, он скрывал это от нее, по советам ее говел, посещал богослужения и т.д. Я забегу несколько вперед, сообщая тебе, что, незадолго до смерти, будучи произведен в офицеры, Гуля наш говорил Мамочке, что копит деньги для путешествия с нею в Киев, «ко святыням Киевским», при чем добавлял, что пока она будет ходить по Киевским пещерам, он займется изучением Киевской старины. После смерти Гули, получив от его начальства, в Кронштадте, эти, накапливавшиеся им деньги, я, для исполнения заветного желания Гули, уговорил ее съездить в Киев, что она и исполнила, сделав ценное пожертвование, в молитвенную о нем память, в один из Киевских храмов, за что и получила особую благодарность от Св. Синода, хранящуюся в одном из моих альбомов, отданных в Толстовский музей.
Одной из отличительных черт ее характера были удивительная скромность, боязнь рисовки своими дарованиями или богатством. У нее был недурной голос, но пела она только в интимном, домашнем кругу, отказываясь выступать в любительских концертах. В юности она недурно играла на любительской сцене, но потом отказывалась принимать участие в домашних спектаклях, так как критически, боязливо относилась к своему сценическому дарованию.
Надо тебе сказать, дорогая Манюточка, что Мамочка не любила, даже мне, рассказывать что-либо о своем детстве и юности, быть может, потому, что и там не все было для нее радостным. Родные Мамочки и старые знакомые, бывавшие в доме ее родителей, передавали мне, что, хотя обоих близнецов – Мамочку и дядю Андрюшу («Адюту», как он сам звал себя в детстве), хотя и любили в семье, но, почему-то, более симпатично относились к Андрюше, на которого, как на мужского представителя рода, возлагали большие надежды. На Мамочку же, как на девочку, смотрели, как на будущую, богатую невесту, которая выйдет, со временем замуж за богатого же помещика и уйдет из семьи. Эта разница в отношениях, иногда болезненно чувствовалась Мамочкою, хотя, по обычаю ее, она скрывала эти чувства. Все это я знаю не от Мамочки, а от посторонних, которые рассказывали мне, что с детства близнецы были обставлены не только удобно, но даже с роскошью. Когда, например, Марья Алексеевна, их мать, возила причащать их в церковь, то закладывались в карету свои лошади и т.д.
Из скромности, из боязни, чем-либо порисоваться, похвастаться, Мамочка не любила, когда, в обществе случайно я упоминал об ее именьях или драгоценностях, доставшихся ей в наследство. Обыкновенно, в таких случаях, она с неудовольствием прерывала меня, говоря с напускной небрежностью: «Ну, какое там именье!». – «Ну, какой там лес!»
У нее было не мало дорогих (даже драгоценных) кружев, доставшихся ей по наследству. Она их никогда не употребляла. В этом собрании, между прочим, были редчайшие вышивки гладью по тюлю, на две кровати (на одеяла и подушки), сделанные еще во времена крепостного права. Нам не раз предлагали продать их в какой-либо музей, но Мамочка берегла их для вас, детей, как воспоминание о фамильном прошлом. Все это погибло в Симбирске во время революции: кружева пропали в магазине случайных вещей, где находились «на комиссии», во время внезапного закрытия магазина. Накидки же на кровати, сделанные крепостными, во дни голода нашего, в Симбирске, во время революции, пришлось продать за бесценок, и они, разрезанные варварски на куски, пошли на подвенечные вуали местных мещанок!.. И кружева свои прятала Мамочка от посторонних взоров, пока не приехала в Вильну, для концерта моя знакомая Вера <нрзб> Сипягина-Лилиенфельд, с ума сходившая от дорогих кружев. По моей просьбе, Мамочка должна была показать ей свои сокровища, и та пришла в восторг от увиденного…
Сама Мамочка, несмотря на средства, дававшие ей возможность, при желании, наряжаться, одевалась всегда удивительно скромно, к чему приучала и вас. Не любила она выезды на официальные балы, когда приходилось делать себе особый туалет, вызывать куафера, надевать драгоценности, нанимать карету. Однако, когда я стоял близко к виленскому генерал-губернатору генерал-адъютанту В. Н. Троицкому, его «двору», вообще к высшему виленскому обществу, так называвшемуся «свету», то Мамочке, ради меня, приходилось делать исключения, чтобы из своей мирной, скромной, семейной обстановки, по временам показываться в этом «свете», в котором чувствовала себя чужою…
Я сам не любил этого «света», предпочитая ему, с молодости, казарму, тюрьму, госпитали и лазареты, где я мог быть полезен низшему брату или «страждущим и обремененным», что очень ценила во мне, понимая меня, Мамочка.
Как назло, жизнь моя сложилась в Вильне не так, как я о том мечтал. Во главе 108-го Саратовского полка, в котором я служил до военно-юридической Академии, встал полковник Иван Иванович Максимов, блестящий гвардеец, влюбленный в свою карьеру, в «свет», в высшее общество, в высшее начальство, имевший в Петербурге связи и т.д. Так как я при нем состоял полковым адъютантом, был близок к нему, а потом и к семье его, то он и меня втянул в этот высший, аристократический круг. Когда же генерал Троицкий был сделан генерал-губернатором и командующим войсками Виленского округа, то я попал к нему в качестве секретаря «Красного» и «Белого» крестов, управления, отделы которых имелись в Вильне, был близок к нему, любим им и уважаем, работал каждый день в его доме, рядом с приемною, куда сходились ему представлявшиеся. Все это, в связи с моей научно-общественной деятельностью по Северо-западному краю, значительно расширило круг моих знакомств. Независимое положение, которое занимал я, благодаря Мамочкиным средствам в местном обществе, выдвигало меня и Мамочку в первые ряды местной аристократии и бюрократии… Вновь назначаемые губернаторы и архиереи делали нам визиты. Все это не давало мне возможности прятаться от «общества» и прятать от него мою жену. Поневоле нам приходилось показываться в «свете», особенно там, где это являлось официальной, общественной повинностью… И бедная Мамочка несла терпеливо этот «крест», как терпеливо несла и другие «кресты» жизни, старалась и тут не выделяться из толпы, не обращать на себя внимание туалетами и драгоценностями.
Семейные же обязанности у Мамочки были всегда на первом плане. Когда она кормила грудью первых своих детей, то на балах и в концертах она всегда чувствовала, если дома, проснувшийся ребенок голоден и плачет, требуя ее груди. Помню, как однажды, на одном парадном концерте, она отказалась оставаться, предчувствуя, что дома Гуля проснулся, плачет, почему и уехала до конца. При этом оказалось, что действительно Гуля требует груди, а Тетя с Зосей не могут никак унять его плач…
Мамочка обладала способностью чувствовать на расстоянии, когда я, будучи далеко, тосковал по семье. Так случилось во время моего трехмесячного пребывания в Ялте, осенью. Желая развлечь меня, Мамочка бросила дом, Тетю и Гулю, и, несмотря на то, что уже в России и в Северной части Крыма начались морозы, с вьюгами, приехала ко мне. Я ездил встречать ее (а потом провожал в Бахчисарай), через Крымские горы, заваленные снегом, в лютый мороз и вьюгу (в то время, когда в Ялте благоухали на воздухе розы и в берега плескались теплые волны Черного моря). На подобное путешествие Мамочки я всегда смотрел, и смотрю сейчас, как на подвиг любви и милосердия…
Кажется, дорогая Манюточка, из всего мною здесь, в этой «памятке» сказанного, ты можешь убедиться в том, как благодаря Мамочке, и вам деткам, меня любившим, был я счастлив в семейной жизни, несмотря на то, что благодаря моему характеру и постоянной, убежденной борьбе за правду, и в нашу семейную жизнь с улицы врывались разные неприятности, осложнения, в роде насильственного перевода моего из Вильны в Смоленск, выхода моего в отставку в 1908 г. и т.д.. На подобные жизненные осложнения, Мамочка только усерднее за меня молилась, твердо уповая, что «все от Бога», что «надо безропотно покоряться его воле», что «Он все устраивает к нашему благу» и т.д. Увы! В те дни семейных наших невзгод, я не всегда был в состоянии примириться с такой философией, с таким прощающим отношением к моим врагам и смирению предпочитал продолжение борьбы за правду!..
Благодаря тебе, вызвавшей эти воспоминания о нашей семейной жизни, я невольно вспоминаю стих поэта:
«В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань!..»
Прощать, уступать, покоряться, смиряться, отодвигать на задний план свои личные интересы, желания, потребности и надежды – были основные девизы Мамочкиной семейной (да и вне семейной) жизни…Не я один не знал в ней недостатков. Не мало было недоброжелателей, завидовавших ее средствам, положению, семейному счастью… Но и их она побеждала «любовью прощающей», как выразился, в одном из своих стихотворений, другой поэт. Неудивительно, что у Мамочки никогда не было врагов…
Мамочка твердо веровала в то, что Бог, в самый разгар личного нашего благополучия и счастья, шлет нам страдания, для того, чтобы испытывать нашу любовь к Нему, нашу преданность Его воле. Так, взглянула она, бедняжка, и на утрату Варюши… (“Ma Terra promise”, как она звала нашу чудную девочку). Но Бог готовил ей (и, конечно, мне) еще более тяжкое испытание: мы потеряли и Гулю!!.
В общих чертах, с наших слов, по воспоминаниям, ты знаешь кое-какие подробности этого нашего семейного горя, но многое рассеяно по моим дневниках, сейчас хранящимся в Толстовском музее. Документы, относящиеся к смерти Гули и его жизни отчасти находятся в особом сундучке, вложенным мною в другой, большой сундук, оставшийся в Ульяновске,. Может тебе (да и сестрам твоим, если они прочтут эту «памятку») будет небезынтересно узнать о том, что мы с Мамочкой, в те дни ужаса и скорби, пережили…
Все в жизни Гули складывалось так, что обещало ему и счастливую жизнь, и блестящую карьеру в будущем – и его красивая наружность, и его умственные, нравственные качества, и его дарования… Я ввел его в хорошее, даже высшее, блестящее Петербургское общество моих родных и знакомых, где его любили и радушно принимали. Любили его и товарищи по Морскому кадетскому корпусу, и товарищи по службе, в том числе и подчиненные нижние чины, когда он окончил корпус и мичманом (первый офицерский чин) вышел во флот. Сам он рвался к морю, к путешествиям: морская служба его удовлетворяла. Конечно, мы с Мамочкой его поддерживали материально, так что он не отказывал себе ни в чем: ни в удовольствиях, ни в покупке дорогих, хороших вещей. Молодой, высокий, статный, красивый, с изящными манерами, всегда щегольски, безукоризненно одетый, он невольно обращал на себя внимание в том обществе, в котором бывал… В Гуле было, при том, какая-то уверенность в счастье… (по правде сказать, и мы с Мамочкою в это уверовали!..). И вот все разлетелось, как разлетается под нежданным налетом ветра карточный домик, созданный детскими, самоуверенными руками!!.
В 1912 году, Гулеша, уже офицер, приехал погостить к нам в Вильну, приехал недомогающий, невеселый, как бы в самом себе сосредоточенный. Между тем, все ему по-прежнему, улыбалось в жизни.
Незадолго перед приездом, я ездил в Петербург хлопотать о нем. Дело в том, что Морской министр Григорович, при выпуске из Морского корпуса, многих назначил не в те части флота, в которые они имели право выйти по их успехам. Таким образом, и Гулю предназначили к выпуску не в Балтийский флот, на что он имел все основания рассчитывать, а во флот Черноморский, отдалявший его от Петербурга и от нас, что было ему нежелательно. Узнав от него про такую несправедливость, я поехал в Петербург, был у военного министра В. А. Сухомлинова, и заручился от него рекомендательной запиской к адмиралу Григоровичу. Кроме того, я побывал и у великого князя Константина Константиновича, знавшего и меня, и Гулю. Получив от меня памятную записку о Гулином деле, он обещал написать Григоровичу, и, как потом оказалось, действительно написал ему. В результате Гулю, как бы в исключение из общего распоряжения Григоровича, назначили в Балтийский флот.
Приехав к нам, Гуля жаловался на общее недомогание и усталость. Затем, у него появилось на руках, а, может быть, и на всем теле, странное, непонятное шелушение кожи. Когда, после его отъезда, через известный срок, кто-то из вас заболел скарлатиной, а сам Гуля позднее скончался от кровоизлияния в мозг, после страданий горла и уха (до того он никогда не хворал), то у докторов явилось предположение, что он был болен скарлатиною в легкой форме, и как здоровый молодой человек перенес ее на ногах (это было зимой). Приехав к нам, в Вильну, он заразил сестру, застудил болезнь, вызвал осложнение страданиями горла и уха, которые перешли на мозг, вызвав разрыв кровеносного сосуда и кровоизлияния в мозг, а, затем, и скоропостижную смерть. Несмотря на наши настояния, Гуля, будучи в Вильне, не хотел советоваться с врачами, и уехал от нас в Кронштадт, не придавая серьезного значения своему недомоганию.
Надо тебе заметить, что ты была уже больна скарлатиной в очень сильной, опасной форме, с осложнениями в почках, еще тогда, когда мы, до переезда в Смоленск, жили в Вильне, на Погулянке, в доме Буйко. (Болезнь твою запустил военный врач Феодосьев. Спас же тебе жизнь известный Виленский врач Зайончковский, которого я пригласил, когда ты стала пухнуть от скарлатинной водянки).
Вообще врачам-полякам я много обязан в моей жизни: 1) Зайончковский спас тебя от скарлатины; 2) Петрашкевич спас Мамочку от внематочной беременности; 3) Чудовский (в Смоленске) спас Тамарочку от дифтерита. После такого отступления, невольно пришедшего на ум, продолжаю мое скорбное повествование. Итак…
При появлении в доме скарлатины, мы, разделили квартиру нашу на две, друг от друга совершенно изолированные части: в одной жили Мамочка с больной Катюшей и няней Михалиной, имея особые ход и кухни; в другой (парадные комнаты, моя спальня и кабинет) жил я с другими двумя детьми и француженкой. Скарлатина прошла. Наступил период ванн, дезинфекции, сношения со здоровыми. От Гули получались бодрые письма, в которых от сообщал, что, несмотря на холодную петербургскую весну, чувствует себя хорошо на положении свободного офицера, советовал мне не хандрить, беречь себя и т.д.
В роковой день я встал рано и успел писать в кабинете в самом хорошем настроении, как вдруг меня охватывает небывалые тревога и тоска по Гуле, только по нем, при том настолько, что я бросил работу и, надев туфли, чтобы не разбудить спавших по соседству, в зале, стал не только ходить, а возбужденно бегать по кабинету. Так продолжалось с час, когда раздался звонок у входной двери, и я получил телеграмму из Кронштадта, от морского начальства, извещавшую о том, что Гуля опасно заболел. Скоро принесли другую телеграмму с известием о том, что положение Гули опасно и что присутствие мое необходимо. Тогда я подошел к запертой двери той комнаты, где была Мамочка и предупредил ее о том, что на нас, по-видимому, надвигается несчастье, прочтя ей телеграммы. Мне было слышно, как она всхлипнула. Мамочка объявила, что немедленно идет в церковь молиться о Гуле, – и действительно сейчас же ушла. В ее отсутствие принесли мне третью телеграмму, с извещением о смерти нашего сына, и с вопросом, какие будут мои распоряжения на счет погребения его тела… Это было для меня ударом молнии среди безоблачного неба… Первая моя мысль была пойти на встречу Мамочке и подготовить ее к роковой вести. Меня поражала загадочность телеграмм, в которых не говорилось о причинах смерти. Самоубийство?!. Сумасшествие?!. Несчастный случай?!. Приходилось теряться в догадках… Я сел, недалеко от нашего дома, в тени аллеи, идущей вдоль Набережной, и стал поджидать из церкви Мамочку. Вот и она, спешащая к дому. Мое неожиданное появление навстречу и взволнованное лицо предупредили Мамочку о несчастии. Я взял Мамочку за руки, усадил ее на скамейке и, обняв, сказал: «Ты у меня ведь героиня и верующая! Поэтому не буду от тебя скрывать истины!.. Наш Гулеша скончался!» Мамочка ничего, ничего мне не ответила, не плакала, а как бы закаменела. В глазах же ее была такая затаенная боль, что выражение их я и сейчас помню…
Мы тут же решили, что я поеду вечером в Кронштадт и привезу тело, для погребения в Вильну. Вечером я и выехал, утешая себя тем, что в мое отсутствие Мамочка забудется в хлопотах по прекращению домашнего карантина, в приготовлениях к погребению и проч.
В моих дневниках и в сундучке, в котором находятся бумаги и переписка, связанные с его смертью, имеются и некоторые сведения об этой скорбной моей поездке. Тебе же сообщу, что о смерти Гули мы поместили объявление в «Новом Времени», и также расклеили объявления по городу. Многие прислали нам сочувственные письма и телеграммы. Великий князь Константин Константинович, лечившийся заграницей в Вильдунгине, в Германии, где когда-то лечился и я, прислал мне телеграмму такого содержания: «Примите и мое участие в вашем великом горе. Константин». Послали мы телеграмму и Андрюше Снитко с женою, на которую они, ко времени возвращения моего с телом, и приехали, сердечно отнесясь к нашему несчастью. Сойдясь вчетвером в моем кабинете (я, Мамочка, Андрюша, Елизавета Никитична), мы вдруг зарыдали. Это были первые слезы, пролитые Мамочкою, выведшие ее из состояния того духовного окаменения, в котором она находилась…
Выехав из Вильны, в день получения телеграммы, вечером со скорым поездом, и ранее еще послав в Кронштадт телеграмму о своем приезде за телом, я на другой же день, был уже в Кронштадте. Меня встретили там, как отца морского офицера, с большим почетом и участием. Когда я явился на броненосец, к адмиралу, командовавшему флотом, меня встретил почетный караул, офицер которого подошел ко мне с рапортом. В мое распоряжение были даны особый офицер и паровой катер; но я от них отказался, приняв только номер в морском собрании. Скоро разыскал меня в Кронштадте Сева Снитко (ныне покойный, убитый в войну с германцами); он привез венок на гроб Гули. На другой день состоялись торжественные проводы тела Гули. В часовне Морского госпиталя, в котором он скончался, было совершено отпевание, собравшее, не мало офицеров и дам, знавших Гулю. Возлагали венки от моряков, знакомых… Моряки поднесли мне подлинный Андреевский флаг, которым и покрыли металлический гроб с телом усопшего. У часовни были выстроены команды от всех судов, стоявших в порте. После отпевания процессия, при части войск и двух оркестрах, попеременно игравших похоронные марши, двинулась к Петропавловской пристани, где ждало уже небольшое военное судно для отвоза тела в Петербург с почетным караулом и священником, и, кроме того, в виде конвоира, то судно, на котором Гуля заболел во время службы. Когда процессия проходила мимо дворца коменданта Кронштадта Вирена (адмирал был впоследствии, во время революции, варварски убит ненавидевшими его за строгий режим солдатами-моряками), адмирал Вирен со штабом своим, в парадной форме, вышел к гробу, познакомился со мною и провожал гроб до пристани, где простился со мною, перед тем, как судно с телом тронулось. Был холодный, ветряный, сумрачный петербургский весенний день, почки едва-едва распускались. Когда судно следовало с телом Гули, на всех судах флота, в знак траура, были наполовину спущены флаги, а на броненосцах оркестры играли «Коль славен»… Когда судно с телом приехало к Петербургской пристани, то, кроме отряда от моряков (с оркестром), его (и меня) встретили на берегу те, кто хорошо Гулю знал – Ив. Ив. Максимов, З. А. Герард, пианистка В. В. Тиманова, дочь члена Государственного Совета Н. А. Зиновьева (сам он долго ждал на пристани, но, в виду запоздания судна с телом, уехал), Пузыревские и др. Провезли тело через город, поставили запаянный, металлический гроб в товарный вагон и на моих глазах поезд тронулся…
Также торжественно, с воинскими почестями, венками, при чудном хоре архиерейских певчих, после богослужения в Николаевской церкви (которую так любила Мамочка в детстве), похоронили Гулю на Лютеранском кладбище. Собралось множество знакомых, и зевак, привлеченных военным погребением. В Вильне стояла уже весна в полном разгаре. Был чудный день. Сияло солнце. Когда гроб Гули несли к могиле, сияла молодая зелень, цвели деревья, пели соловьи. Внезапно пошедший, при незаходящем солнце, крупный дождь, точно блестящими шпагами ударял в металлический гроб. Пропета у могилы последняя лития. При троекратном залпе сопровождавшего гроб пехотного отряда, гроб медленно поглощается могилою. Стучат о крышку его комья земли. Затем вырастает насыпь, обложенная венками из белых роз и других живых венков… И все кончено.
«С жизнью покончен вопрос!
Больше не надо ни песен, ни слез!»
Во все время длинных и пышных похорон, Мамочка держала себя настоящей героиней и христианкой, не плача, не падая в обморок, горячо молясь и находя в себе силы благодарить тех многочисленных друзей и знакомых, которые почтили память Гулешы своим присутствием.
Через год, по проекту художника Южанина, мы поставили на могиле Гули прекрасный памятник из красного и черного гранита, представляющий колонну на подставке со ступенями. На колонне – крест (символ веры), в медальоне в форме сердца (любовь) – портрет Гули на фарфоре. От креста висит кусок якорной цепи. Продолжение этой разорванной цепи, прикрепленной к морскому якорю, спускается по ступеням (разбитые надежды). Место, где стоит памятник, мы огородили посеребренной решеткою с входной дверцей и скамейкою. Таким образом, создалась наша фамильная усыпальница, где покоятся уже мои отец и мать и дети Гуля, Варюша и Боря. Якорь для памятника прислали мне вместе с цепью из Кронштадта моряки, товарищи Гули. Будучи в Кронштадте, я роздал сослуживцам все его вещи – револьвер, кортик и проч.
На памятнике, на нижней подставке, я поместил, в память Гулеши, следующее стихотворение:
«Все было в нем необычайно:
Таланты, сердце, ум и красота,
Возвышенность мечты, правдивые уста
И смерти скоротечной тайна…»
Смерть Гули совпала с торжествами по случаю торжественного юбилея 1812 года. По деду моему, а прадеду Гулеши, горою Отечественной войны генералу Ивану Степановичу Жиркевичу, мы с ним имели право быть на торжествах, связанных с приснопамятным юбилеем. Но событие это, с кончиною Гули, потеряло для меня всякое значение. Я нигде не был, уклонившись и от участия в открытии памятника под г. Красным (Смоленской губ.), воздвигнутого по моей инициативе над «Забытой могилою павших здесь в 1812 году русских воинов», мною же обнаруженной.
В бытность мою в Кронштадте я наткнулся на многие непорядки, относящиеся к смерти моряков и к их пользованию в Морском госпитале. Со свойственною мне прямотой, вернувшись в Вильну, и благодаря адмирала Вирена за то внимание, каким был почтен мой скончавшийся сын, равно, как и за внимание, лично мне, как его отцу, оказанное, я описал все те безобразия, которые творятся в Морском госпитале относительно попавших туда на излечение и там скончавшихся. Я чуть не умер от разрыва сердца, когда полупьяный фельдшер, на просьбу мою показать мне дорогого покойника, привел меня к телу, еще не приведенному в порядок после вскрытия. Когда он отдернул холст, которым был прикрыт труп, я увидел Гулю с полуоткрытыми глазами, с открытым ртом и с выражением невыразимого страдания на лице, всего окровавленного, с небрежно зашитыми после вскрытия швами. Когда Гулю, затем, обмыли, одели и положили в гроб, лицо его приняло спокойное, прекрасное выражение. А меня заставили видеть моего дорогого мальчика в виде какого-то замученного страдальца. После моих настояний едва нашли крест, бывший на шее Гули, кем-то с усопшего украденный. При вскрытии Гулю небрежно бросили лицом вниз, повредив ему нос. Я снял с мертвого фотографию прежде, чем запаять наглухо гроб, в котором он лежал…
По поводу моего заявления у меня с Виреном началась неприятная переписка. Врачи госпиталя, оправдывая непорядки и обвиняя меня в преувеличениях, понятных со стороны убитого горем отца, были изобличены мною предъявлением адмиралу Вирену фотографии с покойного, на которой ясно было видно повреждение его носа. Потом я махнул на эту переписку рукой.
Товарищи Гули передавали мне следующие подробности его заболевания. Судно, на котором служил Гуля (крейсер, кажется, «Посадник») готовилось к дальнему плаванию. Его снаряжали в путь, устанавливая на нем орудия. Гуля, желая показать пример нижним чинам, вместе с ними перетаскивал тяжелое орудие, устанавливая его, когда вдруг упал: как потом оказалось, у него от напряжения сделался разрыв мозгового сосуда, вызвавший кровоизлияние в мозг. Потерявшего сознание Гулю на руках снесли в каюту, где он помещался. Тут он на время пришел в сознание, но, чувствуя себя плохо, имея на руках казенные деньги, вынул их и передал своему вестовому, с приказом, в случае его смерти, передать начальству, что тот потом и исполнил. Затем Гуля опять потерял сознание, уже окончательно, был перевезен в таком состоянии в Морской госпиталь и там, видимо оставленный на произвол судьбы, через довольно продолжительный промежуток времени, скончался. Морское начальство и эскулапы не позаботились телеграммою вызвать к больному какого-либо хирурга из Петербурга, или уведомить родных, адреса которых были известны из бумаг заболевшего. Не позаботились об этом и товарищи. По-видимому, своевременно произведенной операцией, можно было бы спасти дорогую нам, молодую жизнь! Тем глубже и острее было мое горе…
В письме к Вирену я приводил параллель между той помпой, которой окружают во флоте скончавшегося офицера и теми безобразиями, которыми сопровождаются его болезнь и смерть…
Часто потом, во время революции, читая о тех муках, которыми солдаты – моряки предавали своих офицеров, мы с Мамочкой благодарили Бога за то, что он вовремя призвал к Себе нашего сына, при его патриотизме и убеждениях, наверно также мученически бы погибшего. Но, в первые дни нашего горя, мы так не думали, не чувствовали.
Желая хоть немного успокоить Мамочку, я уговорил ее, несколько месяц спустя смерти Гули, вместе со мною, сделать путешествие в Кронштадт, т.е. в место, где он служил, страдал и скончался. Мы совершили это путешествие, проехав Петербург и ни к кому не заглядывая. Мы побывали и на судне, где заболел Гуля, и в каюте, куда потом, по просьбе моряков, послали его большой портрет. Нам удалось разыскать квартиру, на которой в последнее время он жил, побывать в часовне Морского госпиталя, в котором стояло его тело, а равно в других местах, связанных с его жизнью и службою. Все, все говорило нам о размере потери, которую мы понесли, и бедная Мамочка, стоя в Вильне у запаянного гроба единственного сына, не могла даже увидеть его, мертвого, и дать ему последнее целование, благословить его…
Помню, как мы с Мамочкой ехали в Кронштадт и обратно по тому самому заливу, по которому столько раз ездил в Петербург счастливый, молодой, бодро смотревший в будущее Гуля. Был ясный, но ветряный день. Мутные, желтоватые волны, в хаотическом беспорядке метались у парохода. Сновали над водою чайки… Прощаясь с Кронштадтом, я и Мамочка точно перевертывали страницу нашего жизненного альбома, облитого слезами… На пароходной скамейке я, в утешение Мамочки, говорил ей о том, что у нее есть еще впереди цель жизни – воспитать вас, сестер ее сына так, чтобы вы были его достойны… И во время этого путешествия Мамочка не плакала, не приходила в отчаяние, не роптала на Бога, а только молилась и с любовью вглядывалась во все, что напоминало на земле ее дорогого мальчика…
В наследство нам с Мамочкою достались, между прочим, дневники Гули. Мамочка, их читавшая, говорила, что они очень интересны. Я не в силах читать их: так они и останутся нечитанными мною в нашем фамильном архиве, в сундучке, где собрано все, связанное с жизнью и смертью нашего незабвенного первенца…
Смерть Гули еще более сблизила меня с Мамочкою. Часто, по вечерам, мы беседовали с нею о нашем дорогом усопшем, вспоминая разные эпизоды из его детства и юности. Много новых подвигов доброделания совершила Мамочка в молитвенную память почившего. Мы и тут помогали друг другу с достоинством, по-христиански, неся крест, ниспосланный нам свыше…
В те дни мы с Мамочкою не могли, конечно, предвидеть, что нас впереди ждут новые испытания и ужасы, что не пройдет несколько лет, как смерть нас на земле разлучит. Но ты, Манюточка, не хуже меня помнишь и войну, и наше бегство в глубь России из Вильны от наступавших германцев, и нашу жизнь в Симбирске до революции и во время ее, болезнь Мамочки – вплоть до отъезда твоего от нас в Москву. Поэтому, об этом, весьма важном, длительном, тревожно – мучительном периоде нашей семейной жизни я распространяться не буду, а прямо перейду к последним месяцам жизни Мамочки и ее смерти.
Как тебе известно, у Мамочки на почве тревог, лишений, непосильных трудов по дому, развилась болезнь сердца, вызвавшая водянку и смерть.
Лечил Мамочку доктор А. А. Листов, много сделавший в смысле облегчения ее страданий и оказания нам помощи. Не помню, при тебе ли, как последнее средство, если не спасения, то продления жизни Мамочки, приглашенный по совету Листова, хирург сделал ей прокол, с целью выпустить из живота воду. Но вода не пошла, что и указывало на нахождение ее глубоко в тканях тела, т.е. на безнадежное состояние Мамочки. Кажется, и она это сознавала, хотя и не говорила о своих предчувствиях мне, Кате и Тамарочке. После твоего отъезда припадки мучительного удушья начали повторяться все чаще и чаще, делаясь все продолжительнее и мучительнее. Катя и Тамара делали все, чтобы облегчить муки нашей страдалицы. Но, как ты сама хорошо знаешь, мы жили в обстановке, при которой это было делать трудно, прежде всего, из-за отсутствия средств. При наступлении припадков Мамочке помогали компрессы с горчицей. А мы дошли до такой нищеты, что на покупку горчицы (сухой) в доме не было денег. Для Мамочки нужна была особая диета: молоко и булки. А у нас нередко не на что было это купить. Когда же мы приносили больной стакан молока, с трудом добытый, она, зная, что я голоден, выпивала это молоко не иначе, как отлив его немного мне в чай. Приходилось соглашаться на такие жертвы, чтобы не огорчать нашу дорогую больную… Все же во мне жила какая-то надежда на чудо, которое спасет эту дивную, столь нам нужную, священную для нас жизнь, тем более, что д-р Листов, по примеру всех врачей, обманывал нас уверениями на возможность благоприятного исхода…
Ты, конечно, не забыла того, с какими молитвами, благословениями, с какой умилительной радостью, Мамочка напутствовала тебя, когда ты решила для продолжения образования ехать в Москву. У нее самой всегда была жажда к образованию. Ею мечтою было дать возможно более солидное, разностороннее образование и вам. Недаром, в завещании своем, составленном ею задолго до ее смертельной болезни, делая меня наследником всего ее движимого имущества и пожизненным владельцем ее недвижимого имущества, просит меня дать вам основательное образование…
После твоего отъезда не было почти дня, когда она не вспоминала о тебе. Ложась же спать, то есть перед сном, так как она почти уже не вставала с постели, Мамочка, перекрестив Катю и Тамару, посылала и тебе издали свое крестное благословение – по направлению к Москве.
За последнее время я мало с нею говорил о наших семейных делах и проектах. Да и о чем было говорить, когда все было давно уже сказано и выяснено нами, в беседах, с общего согласия…
Мамочке, в последние дни, все труднее и труднее было читать в кровати, днем – при недостатке солнечного света в квартире, по вечерам при наших «керосиновых коптилках», в виде экономии, заменявших нам лампы (об электрическом освещении в нашем разваливавшемся доме нечего было и мечтать).
С удивительным вниманием, надев очки, Мамочка, пока могла, читала Евангелие. Когда же слабость не позволяла ей отдыхать душою за таким чтением, делал это я, т.е. читал ей вслух отдельные главы Божественной Книги.
Мамочка, при ее непоколебимой вере, готовилась к переходу в мир иной с удивительным спокойствием и радостным предвкушением загробного счастья. Для нее такой переход был равносилен переходу из одной комнаты в другую.
Как-то раз солнце щедро озолотило утром своими лучами, рыжевато-красную листву деревьев, находившихся против наших окон, через улицу, на той стороне ее. Картина была действительно волшебная!.. Мамочка, через окно, все видела и, налюбовавшись, воскликнула: «Боже! Какая красота! Как хорош Божий мир!..» И тут же, пониженным голосом, несколько успокоившись, добавила: «Но разве может сравниться эта, земная красота с той красотой, которую мы встретим там, когда закроются наши земные взоры!»
Никогда не выражала она ропота на Бога за свои жестокие страдания, а, напротив, благодарила Его за них, так как твердо веровала в то, что земные страдания, заглаживая наши грехи, служат залогом будущего нашего райского блаженства, в которое она робко веровала. Только недели за две до смерти, Мамочка, после жестокого припадка удушья (астмы), сказала мне: «Я умираю, так как переутомилась от таскания тяжестей, вообще от непосильной работы!..»
Почувствовав приближение смерти, она (и без того несколько раз, во время болезни, исповедовавшаяся и причащавшаяся) пожелала еще раз найти утешение и духовную связь со Христом в этом обряде, прося пригласить престарелого священника Св. Троицкой церкви В.Ф. Боголюбова. Он сейчас же явился, исповедал и причастил умирающую (конечно, в нашем отсутствии), а, затем, при нас, по ее желанию стал служить «молебен на разлучение души с телом». Мамочка, сначала, была в полном сознании, но потом, видимо, стала забываться, так как, когда батюшка дал ей поцеловать иконку, она, воображая, что ее причащают святых тайн, с закрытыми глазами, стала хватать иконку губами, говоря: «Не могу проглотить…». Но, потом, когда ей объяснили, в чем дело, пришла в себя, открыла глаза и поцеловала иконку. Думая, что Мамочка кончается, отец Боголюбов, в полголоса, стал читать «отходную». Мамочка, опять лежавшая на спине, спокойно, с закрытыми глазами, надо думать, не слышала чтения. Когда последнее было окончено, батюшка хотел уходить, Мамочка, на мои слова «Катюша! Батюшка уходит!», очнулась и, с улыбкою протянув Боголюбову руку, поблагодарила его за молитвы. По уходе его, сказав: «Как мне теперь хорошо!», она попросила положить ее на правый бок, что мы (я, Катя и Тамарочка) исполнили. Она поблагодарила и нас. Это были ее последние слова. Она впала в бессознательное состояние. У нее начался жар. Дыхание выходило из запекшихся губ со стонами. Такая агония продолжалась почти сутки. За это время нас посетила старуха Яковлева, подержала Мамочку за руку и тоже нашла у нее сильный жар. Наконец, ангел наш отлетел к Богу… Мы не плакали, не приходили в отчаянье, а радовались, что одной страдалицей на земле меньше. За несколько часов перед кончиною (сейчас я даже теряю счет времени, когда вспоминаю Мамочкину кончину), я, уверенный в то, что конец близок, пошел на базар, купил самый дешевый гроб, который дети потом обили внутри простынею, и сам привез его на тележке. Мамочка же, после того, долго еще агонизировала. Когда последние, предсмертные стоны затихли, мы, обмыв тело, одели Мамочку в светлое платье, белой косынкою повязав ее голову (так что видно было ее личико), опоясав усопшую, как она того желала пояском с молитвою, а рукава прикрепив к ее ручкам такими же тесемками с молитвами, дав ей в руки деревянный крест с распятием, положили в готовый уже гроб, закрыли последний и с трудом, волоча по полу, перетащили его в другую половину комнаты, под образа, у которых зажгли лампадку. Поднять гроб на стол у нас не было сил; на наем рабочих не было средств, как не могли мы приглашать священника на панихиду, заказывать покров, свечи в подсвечниках и другие такие же принадлежности смерти. У гроба не читался псалтырь…
Готовясь к смерти и распоряжаясь на счет поясков с молитвами и крестом, Мамочка и тут осталась верна себе, в желании уступить лучшее другому, чтобы кого-либо не обидеть. Так как у нее на стене, у кровати, рядом с иконами и другими святынями, висели два, одинакового вида, креста, но разных размеров, то она сама выбрала меньший, оставив большой для меня, когда я умру.
Мы не делали каких-либо оповещений о смерти Мамочки, похоронив ее, опять таки, вопреки принятым обычаям, не на третий день смерти. Ко времени выноса тела собралось несколько соседок со двора, бедных старух, знавших Мамочку, любивших и чтивших ее. За час до выноса, когда еще никого не было в доме, мы открыли гроб, чтобы проститься с дорогой усопшей. Ко времени кончины, на теле ее лопнули наружные покровы; вся вода из него вышла. Так что Мамочка наша лежала осунувшаяся, худенькая, беленькая, прекрасная, со спокойным выражением на одухотворенным смертью лице, напоминая святую, отстрадавшую мученицу. Тут мы все трое над нею поплакали, поспешив закрыть гроб от посторонних, любопытных взоров… В это самое время зашел навестить Мамочку, думая, что она еще жива, добрый доктор Листов. Увидав на полу гроб, а нас с заплаканными глазами, он понял все, не произнес банальных слов утешения, а, обняв дружески моих осиротевших девочек, сказал, что много у него на руках умирало больных, но он видел первую, которая и в жестоких муках забывала о себе, а думала о том, чтобы не обеспокоить собою других. Эти теплые, сердечные слова были лучшей эпитафией, сложенной у гроба Мамочки, в ее память. Все хлопоты по похоронам он взял на себя. В церкви не было провожавших отстрадавшую нашу подвижницу. Вместо хора певчих тянул на отпевании дьячок… Наконец, кучка нас, осиротевших, под дождем, утопая в грязи, тронулась за дрогами, увозившими то, что осталось на земле от когда-то богатой, и материально, и душевными качествами и дарованиями, чудной, редкой русской женщины… Опустили мы гроб в могилу, недалеко от кладбищенской церкви, под деревьями, ветки свои склоняющими на могильный холмик, под которым скрылся гроб с дорогими останками Мамочки… На могиле мы не могли поставить памятника. Да его и не надо! Простой деревянный крест с надписями, такая же деревянная, некрашеная решетка, поставленная мною только недавно, перед отъездом из Ульяновска, наиболее соответствует жизни, скромности нашей дорогой, незабвенной усопшей…
Любящий тебя, моя дорогая деточка – Манюточка, А. В. Жиркевич, твой папа.
Дорогая моя Манюточка!
Сегодня, когда я был в Народном Комиссариате внутренних дел, от которого зависит разрешение вопроса о выпуске меня за границу, впервые, за полтора месяца сиденья моего в Москве, повеяло, как будто бы надеждою на такое разрешение. Сегодня же, по случайному совпадению, я закончил ту памятку, которую, по твоему желанию, составил для тебя. Я никогда не думал уж одолеть когда-либо подобную работу и, признаться, приступил к ней с некоторой робостью. Но, по мере того, как я набрасывал мои воспоминания на бумагу, труд мой захватывал меня все более и более. Сейчас, кончая работу, я сознаю, что он был нужен, особенно теперь, когда, собираясь покинуть Россию, хотя и на время, при моем возрасте и недугах старости, не могу себе не задать невольно вопросов: Вернусь ли? Увижу ли тебя и сестер твоих?! Помолюсь ли еще когда-либо на Мамочкиной могилке?!. Не хочу говорить вам, бесценные детки мои, живые частицы усопшего моего Ангела – Хранителя Мамочки, Манюточка, Катюшечка и Тамарочка, печального «Прощайте!». Уронить же самонадеянное, легкомысленное «До свиданья!» не смею, боюсь!!. Повторю, по примеру и привычке Мамочки, молитвенное «Да будет воля Твоя святая!..»
Мне хочется настоящими заключительными строками, поблагодарить тебя отдельно, моя милая героиня Манюточка за то, что ты, дав мне тему для работы, тебя интересующею, заставила меня, в течение немалого количества часов, забываться, оглядываясь на счастливое невозвратное прошлое. И в этом прошлом находить примирение с настоящим, надежды на лучшее для вас, троих, будущее…
Не забуду, как ты, моя деточка, во время одной из бомбардировок Симбирска, когда вокруг нашего дома и по улицам, рвались с треском снаряды, мужественно, презирая опасность, пошла вместо Мамочки, остававшейся со мною дома, на базар, за съестными припасами, резонно рассуждая, что бомбардировка – бомбардиркою, а надо же нам будет пообедать!!. Мы с Мамочкою оценили твою героическую решимость, почти без всяких средств (кроме денег на дорогу) покинуть захудалый Симбирск в жажде открыть себе широкий путь к знанию и свободе.
Когда Катюша с Тамарочкою, в прошлом году решились также спастись из Ульяновской «ямы», в чаянии пробить себе дорогу к свету знания и счастья, я, гордясь ими, искренно сожалея, что Мамочки нет в живых, что она не может вместе со мною разделить мои чувства!..
Знаю, как тяжело вам, милым сироткам, дается эта тяжелая, подчас переходящая в подвижничество, в крестоношение, борьба с судьбою… И тем более, преклоняюсь перед вашим героизмом, напоминающим мне нашу Мамочку в последние годы ее земных страданий и горестей.
Хочу верить, что оттуда дано ей следить за вами, гордиться вами, молитвенно поддерживать, укреплять вас на ваших благородных путях – во благо Родины, родного народа, человечества…
Если бы мог я и в вас вселить ту же веру!!.
А пока… Буду ежедневно, где бы ни был, издали, крестить вас, каждую особо, называя поименно, отходя ко сну, как это делаю теперь, по примеру Мамочки, которая по отношению к отсутствовавшим, ею любимым, поступала также.
Делайте это и вы, по отношению ко мне, в память нашей дивной Мамочки – Мурочки, чтобы между нами, и живыми, и усопшей, поддерживалась духовная связь!..
Любящий тебя папа
Москва 13 января 1926 года.
P.S. Я всегда гордился тем, что такое чудное, святое существо, какое навсегда в благодарной памяти моей останется Мамочка, любила и уважала меня: значит было же во мне что-то, вызывавшее хорошие чувства в той, которая столько лет разделяла со мною все мои радости и печали. Мамочка, дня за два перед смертью, при Катюше и Тамарочке, благодарила меня за наше семейное счастье. Теперь я иногда упрекаю себя за то, что нередко не исполнял Мамочкиных просьб. Если бы она была жива, то, кажется, что я бы только и делал все, чтобы исполнить ее желания.
Мамочка придавала значение могилкам, поминанию усопших, веруя в духовную связь между живыми и умершими. Она не хотела, чтобы я хоронил ее на военно-гарнизонном кладбище, и задолго до смерти, говоря со мной на эту тему, объясняла свое нежелание тем, что военно-гарнизонное кладбище далеко за городом и к ней, на могилку, никто из нас, никогда не заглянет (да я и сам не думал хоронить ее там).
Странное дело! В церквах, при богослужениях, которые так любила покойная, я, как ни стараюсь настроить свою душу в духе Мамочкиных верований, я не чувствую ее духовной близости… Но у могилы ее, куда не раз приходил я поделиться с усопшей моими скорбями и сомнениями, я всегда находил мир и душевное удовлетворение, точно тут, возле меня, стоит ее загробная тень и нашептывает мне слова надежды и утешения… Когда я покидал (надеюсь, навсегда) Ульяновск (Симбирск), то тяжелее всего было мне разлучаться с Мамочкиной могилкой, у которой я много пролил искренних, скорбных слез…
Да! Мамочка была права, говоря, что ее преждевременно свели в могилу непосильные, непривычные труды по дому и хозяйству… Бывало, зная, что она понесет с базара тяжелую корзину с продуктами, я выходил к ней на встречу, на Гончаровскую улицу, которую она должна была пересечь, чтобы помочь ей. Надо было видеть, с какой благодарностью откликалась она на это внимание, слышать, какие теплые слова вырывались у нее при этом. Когда я заболел натуральной оспою и оказался в больнице, при слабости сердца, в крайне опасном положении, Мамочка сама свезла меня в госпиталь и, когда я стал поправляться, ежедневно носила для меня молоко, продолжая исполнять все свои домашние обязанности. Для этого ей приходилось одолеть огромное пространство, сходив за молоком в чувашскую школу (на берег р. Свияги), к Яковлевым, оттуда принести мне, на другой конец города, молоко и, постояв у окна того заразного барака, в котором лежал я, поговорив со мною, опять бежать домой, на Комиссариатскую улицу, т.е. на другой конец города…
Я не думал, что эта наша последняя квартира в Ульяновске, где происходили все мои аресты, где вся семья наша пережила ужасы голода, холода и других лишений, где, наконец, долго прострадав, скончалась наша великомученица, будет мне дорога. Но, когда я покидал ее, когда вынесены были последние вещи, и я остановился у того места, где стояла Мамочкина кровать, я почувствовал такое горе, что едва мог удержаться от рыданий…
Жаль, что я не записывал отдельных взглядов Мамочки, связанных с ее религиозными переживаниями и верованиями. А в них было много замечательного и назидательного. Мамочка не верила в так называемые «случаи». Именно в таких-то стеченьях обстоятельств, часто для нас, смертных, непостижимых, она видела вмешательство Божества в судьбу человеческую…
Говоря о нашей семейной жизни, нельзя умолчать о друге нашей семьи собачки Масютке, хотя бы уже потому, что ее так любила Мамочка.
Масютку я вывез из Вильны под звуки лопающихся немецких снарядов, бросаемых с аэропланов, при зареве горящего у вокзала винного склада и потоков водки, горевших, между строениями. Ты помнишь, как я, не застав вас в Карльсберге, нагнал вас в Минске, у дяди Андрюши и тети Лили. С тех пор Масютка, перенесшая легко длинное путешествие по железной дороге до Ульяновска, стала делить с нами наши тревоги и несчастья. Когда мы голодали – голодала и бедная собачка, ходя за подаянием по соседним квартирам и принося мне какую либо косточку, в надежде, что ею воспользуюсь. Это было удивительно умное, благородное, а, главное, беззаветно преданное нашей семье существо, так что, право иногда, чувствуя на себе беспощадную жестокость людей, я ставил животное выше человека. Умерла Масютка (я не хочу применять к этому благородному существу слово «околела») удивительно трогательно. С полдня мы ее нигде не могли сыскать, ни в квартире, ни на дворе, так что я думал, что она пропала. Как вдруг вечером, легши в кровать, я увидел ее еле-еле выползающую из под кровати и просящуюся ко мне на постель, где в ногах у меня она обыкновенно спала. Я взял к себе Масютку и она, благодарно повиляв хвостиком, улеглась у меня в ногах, под пальто, которым я ее прикрывал. Утром, проснувшись, я увидел, что Масютка лежит на кровати, протянув передние лапки и положив на них мордочку, глядя на меня странным взором. Я окликнул моего друга: молчит. Я дотронулся до него; он давно уже окоченел… Мамочка вместе со мною пожалела преданную собачку… Вот почему, говоря о милосердном отношении Мамочки ко всему живущему, я вспомнил и про эту нашу семейную потерю…
А. Жиркевич
Дорогая Манюточка! Я не имею сил пересмотреть эту запись, почистить слог, исправить ошибки и прочее. Не осуди меня за такие небрежности! Писал не для печати, не для славы, а для тебя, для себя, для утоления тоски, которая охватывает меня в эти дни, когда я нахожусь в чужом городе, не зная, что завтра со мною будет… Тень Мамочки все время со мною. Я не сказал ни слова неправды, зная, как правдива была покойная и как она всегда смущалась, если при ней говорили неправду. Все эти дни я, по своему, был счастлив… И все благодаря тебе, вдохновившей меня на этот труд, потревожив дорогие для меня, а и иногда и священные тени… Вот почему я моим воспоминаниям и дал название «Потревоженные тени»… Не осуди их! Прими от меня, как дар любви!!. Христос с тобою!
А. Жиркевич,
Твой папа-сиротка.
Москва 15 января 1926 г.
Манюточка! Я сказал тебе об этих моих заметках. Но у тебя явилась предположение, что, если я оставлю у себя рукопись, то дополню ее чем либо из моей жизни.. И, представь себе, мне вспомнилось убеждение Мамочки, что в жизни нет случаев, и там, где мы по слепоте своей духовной усматривали «случай», и есть скрытая от нас воля Божия, ведущая нас к добру, любви, Богу и счастью…
Как это, например, ни странно, многое в моем знакомстве со Л. Н. Толстым, казавшееся ранее «случаем», рисуется мне теперь совсем в ином свете. Представь себе, что и Мамочка никогда лично Льва Николаевича не знавшая, сыграла роль в моих к нему отношениях… А вот ты теперь выслушай то, что я тебе расскажу!
У Толстого, в Ясной Поляне, я был три раза, в последний раз в 1903 году, проездом в Смоленск, куда меня начальство так несправедливо, жестоко сослало за мою борьбу по делу об убийстве жандарма Николаева в отделении для умалишенных Виленского военного госпиталя… Меня потянуло в Ясную не стремление, как в первые мои туда поездки, увидеть величайшего моего русского современника и поговорить с ним, поспорить на важные темы, а надежда, пожив около него, успокоиться, примириться со случившемся со мною, почерпнуть силы к дальнейшей борьбе за правду… Толстого я застал развенчивающего Шекспира, озабоченного болезнью брата Сергея и тем, что в нем замечалась боязнь смерти… К моему огорчению, он равнодушно отнесся к моим душевным переживаниям по поводу дела жандарма Николаева, точно это был пустяк, камень, по пути к серьезному, насущному, вечному. А таким именно казалось Льву Николаевичу предсмертное настроение его брата (через год, кажется, умершего)… Но, если я не был понят Толстым, то нашел в нем утешение там, где не ожидал его найти, – в тоске моей по оставленной на неопределенное время семье моей… Тоска эта как-то вырвалась в беседе с Толстым и его женой графиней Софьей Андреевной. По просьбе их, я рассказал им историю моей женитьбы, обрисовав духовный облик Мамочки настолько ярко, что Лев Николаевич ею заинтересовался. Узнав, что у меня в вещах имеется и портрет Мамочки (с Гулей и Варюшей вместе), он пожелал его видеть и долго вглядывался внимательно в эту счастливую группу. Раза два потом, во время этого моего пребывания, он и графиня возвращались к моему семейному счастью. Она даже хотела написать Мамочке, да так и не исполнила своего обещания… Перед отъездом, Лев Николаевич, в последний раз обнял меня (он уехал при мне утешать брата своего Сергея), и с доброй улыбкой сказал: «Кланяйтесь вашей хорошей жене!»
После этой встречи я как-то сразу успокоился. Но разве, в этом отношении, она была в жизни моей случаем?!. Нет! Я смотрю на нее, как на особую милость Божию, как вообще на все мое знакомство со Львом Николаевичем, много повлиявшего на мое отношение к жизни и к военно-судебным обязанностям… В один из моих приездов в Ясную Поляну Лев Николаевич советовал мне сбросить с плеч «разбойничий мундир», который я носил. Как бы он был рад, если бы я послушался его совета, как больше бы полюбил меня!. Но я не мог бросить военно-судебного ведомства, так как глубоко был убежден в том, что, по возможности, военного юриста, много могу сделать для облегчения участи подследственных, подсудимых, томившихся в тюрьмах, на гауптвахтах, в дисциплинарных батальонах… К тому же, расходясь с Толстым в его взглядах на суды, судейские обязанности, я по мимо него, самостоятельно, путем личного опыта, дошел до убеждения, что страдание (в том числе и тюремное крестоношение) очищает душу человека от греховной скверны, ведет его ко Христу, готовит к радостному переходу в мир иной!… Но часто, затем, после свиданий с Толстым, я при исполнении моих служебных обязанностей, проверял мою совесть взглядами яснополянского философа и моралиста… Я и тут продолжал спорить с ним. Нередко он, заочно, заставлял меня сознавать греховность моей жизнедеятельности…
Но настоящей совестью для меня, в сущности, была всегда наша правдивая, чистая, неподкупная Мамочка. Она, по общему правилу ее – не осуждать никого, а заступаться за тех, кого при ней обвиняли (даже если они были виновны), редко делала критическую оценку моих поступков. Знаешь ли, что ее милосердие к преступникам и падшим было до того христианское, что, когда весь мир проклинал казненного убийцу престарелой австрийской императрицы Козерио, быть может, во всем человечестве, одна Мамочка ежедневно молилась за него при вечерних молитвах?!. Мы с нею не могли переделать существующего государственного и общественного строя, уничтожить суды, наказания, смертные казни, но по-простонародному смотрели на так называемых «преступников», когда она [не дописан текст]…
У Мамочки была глубокая вера в то, что у Бога ведется счет нашим добрым, христианским делам, что, в этом отношении, существует связь между прошлым и настоящим, в силу которой то хорошее, что мы сделали на земле в прошлом, непременно находит себе благодарный, благодатный отклик в будущем.
Забежав вперед, я, покину на время мои детство, юность и молодость и перенесусь к ужасам, которые мне пришлось пережить в Симбирске, до 1921 года, во время революции, когда меня, как бывшего генерала» таскали на «учеты», допросы, обыскивали, арестовывали и всячески шельмовали…
Ты помнишь еще, вероятно, что когда, при уходе «белых» из Симбирска, все, в паническом ужасе, бросились бежать, как говорится «куда глаза глядят», из всех бывших здесь генералов, остался я один, так как, во-первых, знал, что за мною нет никаких преступлений против Советской власти (никогда не занимался политикой, я ее ненавидел), а, во вторых, я не хотел бросать семью, желал продолжать делить с нею все невзгоды. Вскоре после ухода «белых» начались обыски у меня и мои аресты. Но, оставшись, я принял все удары на себя, спасши всех вас от тех репрессий, которым подвергались семьи бежавшей «буржуазии», как спас и мои коллекции, которые я потом пожертвовал Родине и русскому народу. Если я вспоминаю всю эту грустную, тяжелую полосу моего прошлого, то для того, чтобы сказать тебе, что Мамочка, обычно, по натуре, кроткая и боязливая, не раз видя меня в опасности, сама рискуя, выказывала несомненно свое мужество… Когда меня арестовали, в первый раз, за ношение генеральского платья (арестовали неосновательно, так как тут я был одет а штатское платье), то Мамочка, узнав от прохожих о моем аресте на улице, у Вознесенского собора, явилась в Чеку, добилась моего освобождения: я отдан был ей на поруки, и мы вместе вернулись из здания, в котором находился на положении «арестанта». В другой раз арест мой мог иметь для меня более серьезные, роковые последствия. Красные шпионы, забравшись в нашу квартиру, увидав там Котю Пузыревского, донесли, что у меня, в доме, скрывается «белый шпион», и с отрядом вооруженных солдат, часа через четыре после ухода Коти, ворвались к нам для обыска моего и ареста, допрашивая: «Куда ты дел шпиона?!» Один из них, при допросе, в коридоре, с тем же вопросом, приставил дуло револьвера к моему виску; другой проделал то же, приставив, в кухне, револьвер к груди нашей служанки Марьи. И вот, когда после ряда подобных издевательств, с бранью и угрозами, меня повезли в тюрьму Чеки (в дом Афанасьева, в подвал-кухню, на Московской улице), Мамочка, зная, что меня могут убить по дороге (бывали и такие случаи с высокопоставленными арестантами), вышла из себя и, перекрестив меня на дорогу, сказала громко: «Саша! Бог видит твою правоту. «Бог не выдаст – свинья не съест». Слова эти, приведшие в ярость агентов Чеки, занесли в протокол на предмет привлечения Мамочки за оскорбление советской власти!.
Но тут начинается полоса – сцепление обстоятельств прошлого и настоящего, т.е. те самые «чудеса», в которых Мамочка усматривала присутствие Божие, Его попечительную о нас любовь… Приехав в Симбирск и став попечителем военных лазаретов Симбирска (это была почетная, но бесплатная должность), я, посещая один из таких лазаретов при бывшей чувашской школе, мне подведомственной, сошелся со знаменитым просветителем чуваш, достойным Иван Яковлевичем Яковлевым, заведовавшем непосредственно этим лазаретом. Когда началась революция, я стал, со слов Яковлева, составлять его мемуары. И, в разгар этой работы, произошел выше упомянутый арест. Кстати! Помнишь ли, моя милая героиня Манюточка, что тебя едва не застрелили, тоже на время арестовав, когда ты, после увода меня, на извозчике поехала искать мне защиты у городского коменданта, которому я подчинялся, как бесплатный попечитель местного, военно-гарнизонного кладбища?!. Мамочка предупредила Яковлева о моем аресте и о том, что мне грозит смертельная опасность. В те дни довольно было оговора шпионов, чтобы самосуд над «буржуями» был произведен в стенах или на дворе темницы. Все знали, что Яковлев был дружен с семьей Вл. Ильича Ленина – Ульянова, которой когда-то оказал крупные услуги. Яковлев сейчас же отправился к стоявшему во главе Симбирской чеки Левину и, с угрозой телеграфировать о моем аресте «Ильичу», добился немедленного пересмотра моего дела, что и было сделано. Сидя два дня в подвале кухни в полном ожидании неизбежного расстрела, я вдруг, не зная о том, что делалось за стенами моей темницы, получил в хлебе Мамочкину записку с загадочно – успокоительным извещением, что обо мне «хлопочут». Тут и Котя Пузыревский, узнавший о моем аресте, в качестве командированного большевиками по служебному делу, явился в Чеку и заявил, что у меня был он, а не «белый шпион». В результате меня перевели в арестный дом, где, продержав с неделю, выпустили на свободу. Ну, разве все это не чудо Божие?! Так смотрела на мое спасение и Мамочка. В исправдоме я нашел в составе тюремных служащих, еще помнивших мою тюремную деятельность по облегчению участи заключенных в качестве попечителя местных тюрем. В одной со мной камере сидело довольно много арестантов, ранее при монархии отбывавших наказания в местных тюрьмах, и не забывших тех забот, которыми я окружал узников. Несомненно, в составе Чеки находились бывшие каторжане, знавшие меня по той же тюремно-филантропической моей деятельности, а, может быть, и лично мне чем-либо обязанные (я потом только узнал, что это так и было). В общем создалась исключительная атмосфера доброжелательно – спасительного ко мне отношения, о чем я и писал Мамочке из исправдома, успокаивая ее тем, что я чувствую себя и в тюрьме прекрасно, видя вокруг себя друзей… На это Мамочка ответила, что в подобном отношении ко мне, по милосердию Божию, отзывается то тюремное доброделание, которое значилось за мной в прошлом…
Чудеса… Да разве не чудо все, что со мною сейчас происходит в Москве?!. Уехав из Ульяновска только с деньгами, достаточными на дорогу за границу, и на короткое пребывание, впредь до разрешения выезда, я, в виду разных обстоятельств, задержался в Москве вот уже полтора месяца… Я уже голодал бы, если бы не ряд обстоятельств, духовное сцепление которых меня выручило… Собираясь выехать из Ульяновска, я не знал, что мне делать с моим огромным литературным архивом, который я не мог вывезти ни в Москву (по безденежью), ни заграницу (так как это воспрещается советскими законами). Приходилось все бросить на произвол судьбы в Ульяновске. И я начал бумаги мои укладывать в сундуки, чтобы сдать на хранение кому-либо из знакомых. В разгар этой спешной, кропотливой, удручавшей меня работы, нежданно приезжают представители Московского Толстовского музея К. С. Шохор-Троицкий и В. А. Жданов, с предложением продать музею материалы, относящиеся к Толстому. Я отказываюсь. Тогда мне предлагается отдать весь мой архив музею на известных условиях. Я соглашаюсь все подарить музею, если бумаги, альбомы и проч. будут вывезены средствами музея. Так как приехавшие на это согласились, то весь мой архив находится, как тебе известно, в музее, приводится в систему и разбирается… Мало того, когда я приехал в Москву и меня задержали здесь разными проволочками, связанными с разрешением о выезде, музей, в благодарность за мою работу по помощи при приведении в порядок моего архива, дал мне кров и содержит меня на свой счет. Я встретил удивительное к себе доброжелательство, нашел себе новых друзей и могу благополучно пережить материальный кризис. Все это похоже на сон, на сказку действительности. Мамочка же, если бы она была жива, усмотрела бы и тут чудо – Промысел Божий, связала бы настоящее с прошлым. Когда то, через Л. Н. Толстого я помогал сектанту, «толстовцу» Егорову. И она была бы уверена в том, что все, со мной совершающееся, имеет тесную, духовную связь с моим тюремно – филантропическим прошлым.
Мамочка знала, как скромно смотрю я на мою прошлую научно-литературно-общественную деятельность. Не так давно, в Ульяновске, укладывая мои бумаги в сундуки, набросав мою автобиографию для Толстовского музея, я, препровождая ее в музей через друга моей молодости поэта Аполлона Аполлоновича Коринфского (живущего под Ленинградом) писал ему, что, оглядываясь на прошлое, считаю себя отчасти Дон Кихотом (моя борьба зачастую с «ветряными мельницами» действительности), отчасти Тургеневским Рудиным, который, в сущности, ничего не сделал, но всю жизнь свою убил на разжигание в других людях хороших, благородных настроений. В моем дневнике я вспоминал финал «Дон Кихота» Сервантеса: умирающий «рыцарь печального образа», прося окружающих простить за неприятности, им причиненные его безумием и рыцарскими похождениями, высказывает пожелание, чтобы о нем сохранилась та кличка, которую дали ему соседи – крестьяне, «добрый». Это я искренно, подводя итого моей жизни, примиряю и к себе… И представь себе, милая моя Манюточка, что и тут у меня произошло, на почве сближения с Толстовским музеем как бы чудо. Послушай только.
На днях К. С. Шохор-Троцкий, занятый сейчас корректированием готовящихся к печати дневников Л.Н. Толстого, сказал мне, что натолкнулся в них на записи усопшего обо мне. Оказывается, что Лев Николаевич, после первого моего к нему, кратковременного приезда, отмечает в дневнике: «Был у меня Жиркевич. Добрый юноша» (имей в виду, что Толстой был меток на характеристики, и что, по словам Шохор-Троцкого, он вообще редко кого хвалил в дневниках). Ты не поверишь, как мне было приятно это сообщение, которое не тешит моего самолюбия, но отмечает то, с чем я мечтал бы после смерти моей, меня вспоминали те, кто со мною соприкасался!!. И тут, в этом мнения обо мне великого психолога, меня когда-то любившего, несмотря на разницу наших взглядов, вижу я (и увидела бы Мамочка, если бы была жива… Но почему же думать, что она этого оттуда не видит?!.) наличность чуда Божия, чудодейственной связи прошлого с настоящим. Быть может, такая вера и наивность с моей и Мамочкиной стороны, мистицизм, который сейчас так грубо, зло высмеивается и вытравляется из современного молодого поколения… Пусть будет и так! Мы с Мамочкою были представители старого, отжившего свой век поколения… Но что же тут позорного?!.
(Вставка, сделанная А. В. Жиркевичем)
А разве не чудо Божие было твое бегство из Симбирска, без всяких средств, с верою лишь в свои силы и в молитвы Мамочки?!. Ты надорвала свое здоровье, но все же выбиваешься, к счастью, на столько, что можешь помогать нашему общему любимцу, сестре твоей Тамарочке, тоже спасаемой молитвами Мамочки…И, поверь, что Мамочка, ни тебя, ни сестер твоих не оставит там заступничеством у Бога, в силу которого (вообще, а не в отношении своих молитв, которые она всегда, по скромности и уничиженью, считала «недостойными»), как она веровала, в жизни человеческой совершаются так называемые нами «чудеса»…
Знаешь ли, что Мамочка, для меня, никогда не умирала! Да я и не верю, по ее примеру, в личное уничтожение души человеческой, нашего «я» после нашей телесной смерти на земле. Часто, в самые трудные, осложненные, интересные минуты моей жизни, я, после смерти Мамочки и Толстого, спрашиваю: а что сделали бы они на моем месте?! Когда же событие уже прошло, во мне рождается следующий, очередной вопрос: «Поступил ли я по Толстому, по Мамочке, т.е. по Евангелию?!» И вот эти «потревоженные» священные для меня «тени» минувшего живут со мною, в моей совести и руководят ею… Но, прости меня, я вдался в философию, уклоняясь от воспоминаний о Мамочке, и, кажется, много лишнего наболтал о себе?!
Хочется тебе сообщить еще что-либо о Мамочке, о нашей семейной жизни (кто знает, увидимся ли, а, если это случится, то буду ли я в состоянии еще раз вскрыть давно уж замолкшие могилы и могилки?!)
Мои взгляды и вкусы часто не сходились с взглядами и вкусами Мамочки (я коснулся этого выше, в том месте, где говорю о наших разногласиях на религиозной почве). Но она и тут, не настаивала, а шла на уступки, хотя это и было ей неприятно. Часто делал, в мелочах ей уступки и я, без подобных, взаимных, уступок семейное счастье немыслимо!.
Мамочка любила животных, но не привязывалась к ним. Эта любовь сводилась к милосердному с ними обращению – не более. Я же и у животных видел «душу», чего не признавала усопшая, возмущаясь тому, что я их ставлю наравне с людьми, подкрепляя свои убеждения ссылками на священное Писание и науку…
Мамочка ничего не понимала в предметах старины и археологических раскопок. А я все увеличивал мои коллекции, загромождая ими не только мои спальню и кабинет, но и парадные комнаты. Весь подобный «хлам» Мамочка презрительно звала по французски “atrappe poussiere” (т.е. размножающуюся в квартире пыль). Не забуду ее комичного ужаса и негодования, когда однажды, возвращаясь со следствия из г. Красного (Смоленской губ.), я привез с собою небольшую, древнюю пушку, бывавшую в походах с Суворовым. Уезжая из Смоленска я ее, как вообще все, собранное в пределах Смоленской губернии, по обычаям моим, пожертвовал Смоленскому городскому музею. Но, когда мы обосновались опять в Вильне, у меня, взамен розданных в разные учреждения предметов искусства и старины, быстро накопились значительные коллекции, заполнив опять, в качестве “atrappe poussiere” нашу квартиру. Эвакуация Вильны застала нашу семью в разных местах: я, с Масюткой и старой прислугою Каролиной, (которую и ты, верно, помнишь?) остался в Вильне – караулить наши вещи; а ты и другие члены семьи, гостившие в Карльсберге, у дяди Андрюши, перекочевали в Минск (где с вами, потом, я, оставив Вильну, и соединился).
С неимоверными трудностями и затратами, при эвакуации из Вильны казенных учреждений и бегстве русских жителей, отправлял я за границы театра военных действий часть моих коллекций (“atrappe poussiere”). Еще одну часть вывез, вместе со мною Евангелический полевой лазарет, с которым я, как опекавший раненых, поддерживал дружеские отношения. Задерживаясь со спасенными коллекциями, я рисковал попасть, как генерал, в плен немцам. Не будучи в состоянии спасти весьма ценную библиотеку, я вырвал из книг заглавные листы с надписями мне авторов. По приезде в Симбирск, я заполнил ими несколько альбомов с автографами: отсюда положено было мною основание и других альбомов, ныне хранящихся в Московском Толстовском музее. Все же много ценных картин, скульптуры, портретов, мебели и прочего погибло в Вильне, так как я не был в состоянии всего этого вывезти.
Мне предложена была помощь (в смысле вывоза) так неожиданно, что я бежал из Вильны, не успев даже проститься с моей престарелой матерью, с сестрой и друзьями… Впоследствии мне иногда казалось, что и мы, и семья дяди Андрюши сделали ошибку, покинув Вильну и Минск, бежав в глубь России, а потому подвергнув себя ужасам революционного времени. У меня были благодарственные письма иностранных военнопленных раненых. Мою деятельность, в этом направлении, хорошо знала помогавшая мне, в моих добрых делах, немецкая колония… Но… Хочется укреплять себя верою Мамочки в то, что ничто не совершается без воли Божией… Мамочка и тут говорила: «Да будет воля Твоя!»…
Не теперь, конечно, а когда явится к тому возможность, хорошо бы, если бы ты, дорогая моя деточка, дополнила бы эти мои воспоминания! Ведь я о многом в них умалчиваю, так как имею в виду, что ты и сестры твои, все пережитое с Мамочкою в Симбирске еще помните! Ты говорила, что Мамочка, при жизни своей, подарила тебе тетрадочку с записями (дневничками) о Боричке. Значит, она серьезно относилась к подобного рода заметкам семейного характера!.. Последуй ее примеру, и помяни ее в своих воспоминаниях… Кто знает, не выйдет ли кто-либо из вас замуж… Тогда пусть дети ваши узнают, какая святая была у них, великомученица «бабушка», которую все мы, в том числе, и я, звали «Мамочкой» и «Мурочкой». Быть может, ты исправишь и некоторые погрешности, которые могли, вкрасться в эту мою работу?!.
Я забыл упомянуть, что в числе старых друзей Мамочкиной семьи, знавших ее родителей и предков, был и почтенный врач, поляк Иосиф Людвигович Юндзивилл. Перед тем, как бежать из Вильны, я обошел некоторых, престарелых, как он, наших друзей и знакомых, раздавая им, от имени Мамочки, пособия. (Предвиделась смутная эпоха в жизни города при переходе его в руки немцев…). Тетя Маша, работавшая в Виленских госпиталях, осталась в Вильне, при занятии города немцами, в качестве «сестры милосердия Красного Креста», не желая покидать престарелой, больной матери и тяжело раненых солдатиков, за которыми ревностно ухаживала. Не знаю, упомянул ли я, делая беглые характеристики наших родных, о том, что вся жизнь тети Маши была сплошным подвигом участия, во имя Христа, в облегчении страданий «униженных и оскорбленных». Она никогда не жила для себя, а всегда для других, терпя всяческие лишения, несчастная в семейной жизни и до конца поддерживавшая мою угасавшую, не обладавшую очень уживчивым характером мать. Если мне суждено встретиться с сестрою, я уверен, что найду в ней то же подвижничество…
Дорогая Манюточка! Неожиданно для меня самого, настоящие мои заметки причинили мне, кроме радости, и своеобразное страдание. Вставшие передо мною «потревоженные тени» вызвали во мне много угрызений совести, и даже сознания виновности по отношению к тем близким, которые меня любили. Если, на почве отцовского порока, я поневоле не мог найти к отцу моему сострадания и не представлял себе возможности совместной с ним жизни, то, мне иногда кажется, что я мог бы быть более нежным с бабушкой Марией Иосифовной, моей матерью, сестрою и братом, которые меня любили и ничего, кроме мелких огорчений, не причиняли. Мне совестно вспоминать, как скудно я помогал им материально… Вообще многое бы я дал, чтобы начать жить снова, с моей молодости, чтобы и они все были живы, чтобы я мог быть им полезным… Надо было и тут поступать так, как поступал я по отношению к посторонним: вникать, понимать и, поняв, прощать, прощать без конца, не рассуждая… То же чувство виновности живет во мне и по отношению к Мамочке: может быть и с нею я не всегда был достаточно мягок, кроток и уступчив… Знаю, что она мне все, все простила… Но… Ах! Если бы я мог воскресить ее и, воскресив, благодарно, каясь, еще раз поцеловать ее опухшие ножки, как это я делал во время ее предсмертной болезни!!. Почему и тут невозможно чудо?! Кто знает, не увидимся ли мы с нею там, за гробом, и не осуществлю ли я еще мою мечту о покаянии…
К моему великому огорчению, я не в состоянии представить Мамочку в разные периоды ее жизни – по ее наружности. Я почти никогда не вижу ее во сне (в этом отношении так счастлива наша Тамарочка!). Тем не менее, духовная красота Мамочки, с годами, не меркнет передо мною, а получает все более и более определенный образ. Да оно и понятно! Пока мы стоим у подножия горы и, на таком близком расстоянии, начинаем изучать ее, то перед нами лишь мелкие ее подробности. Чтобы оценить всю величину, мощь, красоту гиганта – горы, надо отойти от нее на значительное расстояние. Тогда только откроются перед нами ее склоны, покрытые вековыми лесами, ее пропасти, крутизна, ее вершины, покрытые вековыми снегами… Так и с Мамочкой, и с Толстым, и с другими замечательными личностями, с которыми сталкивала меня судьба. По мере того, как я отхожу от их, священных для меня могил, яснее становится для меня духовные их облики… Мне остается только на них, о них молиться, сознавая собственное свое недостоинство и, благодарить Бога не только за то, что я их знал, но и за то, что они чтили меня и любили…
Но ты просила подробностей о нашей семейной жизни, тебе (и твоим сестрам) неизвестных. Это заставило меня вплотную подойти к горе (к горам) и увидеть те мелочи, которые видны лишь стоящим у их подножий… Ну, вот я и заканчиваю мои заметки! Дай Бог, чтобы они тебя удовлетворили. «Чем богаты – тем и рады» – говорит народная поговорка…
Итак… «До свиданья!» Или «Прощай!», дорогая моя героиня Манюточка… Не забывай, любящего тебя и уважающего папочку – старика, бездомного сиротку, надеющегося на скорую встречу с Мамочкою, Гулей, Варюшей и другими близкими и друзьями!!.
А. Жиркевич
Москва
17 января 1926 г.
Улица Льва Толстого,
Д. № 21 (Толстовского музея)
Подготовка текста и примечания – Н. Жиркевич-Подлесских