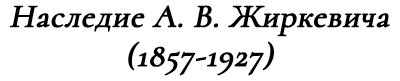…Первым родился здоровый, полновесный мальчик Гулеша (Сергей – Сережа – Сергуля – Гуля – как мы его все звали).
Родился он в той же квартире, в доме Зайончика, по Мостовой улице Вильны, где мы праздновали свадьбу и жили первый год с лишком.
Не забуду всех тех волнений и ожиданий, которые предшествовали появлению на свет Божий нашего первенца… <…>
…из Гули, при его всесторонних дарованиях, на моих глазах, рос русский офицер-гражданин, которому я мечтал со временем передать в наследство все коллекции моих картин, старины, бумаг, альбомы с автографами, так как он все это любил, ценил, а, при приездах в Вильну из Морского корпуса, пересматривал и приводил в должный вид и порядок… Кто мог тогда думать, что мы с Мамочкою, сравнительно скоро лишимся навсегда этого могучего, прекрасного, и по наружности, и по душевным качествам, цветущего, полного веры в себя и надежд на будущее, юношу, наше счастье и гордость! А, между тем, это так и случилось… <…>
Покойный наш Гуля, как это ни странно со стороны мальчика, более чем со мною, сошелся с Мамочкой, и в приезды свои к нам, ей поверял свои мечты и планы на будущее. С вами, своими сестрами, как и со мною, он не сходился. Мои интересы, как и ваши, были ему чужды. Приезжая домой, он сначала был всегда радостен, оживлен, всем интересовался, а, затем, начинал скучать в обстановке нашей мирной, семейной жизни: его тянуло к морю, к плаваньям, к товарищам, к Петербургу, к новым, сильным впечатлениям. Хотя он всех нас и любил, но по своему. И, прогостив у нас, он, надо думать, с радостью садился в вагон, чтобы вернуться к молодой, полной свежих впечатлений, столичной жизни… И, действительно, разве мог удовлетворить его жажду жизни, новых встреч, наш мирный семейный очаг, к которому, по праздникам, присаживались доживающие свой век старики и старушки?!. Мы с Мамочкою не могли этого не понять и, хотя грустили, не будучи в состоянии дать пищу уму и сердцу нашему любимцу, но угадывали стремление покинуть домашний кров… <…>
Гуля же был какой-то особенный, мною неразгаданный. Я отказываюсь, и сейчас определить его несколькими словами. В нем поражала удивительная, красивая, духовная уравновешенность… Иногда, задолго до его смерти, я, глядя на его духовный рост, в тайне говорил себе: «Такие, как он, долго не живут на свете!..» <…>
Все в жизни Гули складывалось так, что обещало ему и счастливую жизнь, и блестящую карьеру в будущем – и его красивая наружность, и его умственные, нравственные качества, и его дарования… Я ввел его в хорошее, даже высшее, блестящее Петербургское общество моих родных и знакомых, где его любили и радушно принимали. Любили его и товарищи по Морскому кадетскому корпусу, и товарищи по службе, в том числе и подчиненные нижние чины, когда он окончил корпус и мичманом (первый офицерский чин) вышел во флот. Сам он рвался к морю, к путешествиям: морская служба его удовлетворяла. Конечно, мы с Мамочкой его поддерживали материально, так что он не отказывал себе ни в чем: ни в удовольствиях, ни в покупке дорогих, хороших вещей. Молодой, высокий, статный, красивый, с изящными манерами, всегда щегольски, безукоризненно одетый, он невольно обращал на себя внимание в том обществе, в котором бывал… В Гуле было, при том, какая-то уверенность в счастье… <…>
В 1912 году, Гулеша, уже офицер, приехал погостить к нам в Вильну, приехал недомогающий, невеселый, как бы в самом себе сосредоточенный. Между тем, все ему по-прежнему, улыбалось в жизни. <…>
Приехав к нам, Гуля жаловался на общее недомогание и усталость. Затем, у него появилось на руках, а, может быть, и на всем теле, странное, непонятное шелушение кожи. Когда, после его отъезда, через известный срок, кто-то из вас заболел скарлатиной, а сам Гуля позднее скончался от кровоизлияния в мозг, после страданий горла и уха (до того он никогда не хворал), то у докторов явилось предположение, что он был болен скарлатиною в легкой форме, и как здоровый молодой человек перенес ее на ногах (это было зимой). Приехав к нам, в Вильну, он заразил сестру, застудил болезнь, вызвал осложнение страданиями горла и уха, которые перешли на мозг, вызвав разрыв кровеносного сосуда и кровоизлияния в мозг, а, затем, и скоропостижную смерть. <…>
В роковой день я встал рано и успел писать в кабинете в самом хорошем настроении, как вдруг меня охватывает небывалые тревога и тоска по Гуле, только по нем, при том настолько, что я бросил работу и, надев туфли, чтобы не разбудить спавших по соседству, в зале, стал не только ходить, а возбужденно бегать по кабинету. Так продолжалось с час, когда раздался звонок у входной двери, и я получил телеграмму из Кронштадта, от морского начальства, извещавшую о том, что Гуля опасно заболел. Скоро принесли другую телеграмму с известием о том, что положение Гули опасно и что присутствие мое необходимо. Тогда я подошел к запертой двери той комнаты, где была Мамочка и предупредил ее о том, что на нас, по-видимому, надвигается несчастье, прочтя ей телеграммы. Мне было слышно, как она всхлипнула. Мамочка объявила, что немедленно идет в церковь молиться о Гуле, – и действительно сейчас же ушла. В ее отсутствие принесли мне третью телеграмму, с извещением о смерти нашего сына, и с вопросом, какие будут мои распоряжения на счет погребения его тела… Это было для меня ударом молнии среди безоблачного неба… Первая моя мысль была пойти на встречу Мамочке и подготовить ее к роковой вести. Меня поражала загадочность телеграмм, в которых не говорилось о причинах смерти. Самоубийство?!. Сумасшествие?!. Несчастный случай?!. Приходилось теряться в догадках… Я сел, недалеко от нашего дома, в тени аллеи, идущей вдоль Набережной, и стал поджидать из церкви Мамочку. Вот и она, спешащая к дому. Мое неожиданное появление навстречу и взволнованное лицо предупредили Мамочку о несчастии. Я взял Мамочку за руки, усадил ее на скамейке и, обняв, сказал: «Ты у меня ведь героиня и верующая! Поэтому не буду от тебя скрывать истины!.. Наш Гулеша скончался!» Мамочка ничего, ничего мне не ответила, не плакала, а как бы закаменела. В глазах же ее была такая затаенная боль, что выражение их я и сейчас помню…
Мы тут же решили, что я поеду вечером в Кронштадт и привезу тело, для погребения в Вильну. Вечером я и выехал, утешая себя тем, что в мое отсутствие Мамочка забудется в хлопотах по прекращению домашнего карантина, в приготовлениях к погребению и проч. <…>
Выехав из Вильны, в день получения телеграммы, вечером со скорым поездом, и ранее еще послав в Кронштадт телеграмму о своем приезде за телом, я на другой же день, был уже в Кронштадте. Меня встретили там, как отца морского офицера, с большим почетом и участием. Когда я явился на броненосец, к адмиралу, командовавшему флотом, меня встретил почетный караул, офицер которого подошел ко мне с рапортом. В мое распоряжение были даны особый офицер и паровой катер; но я от них отказался, приняв только номер в морском собрании. Скоро разыскал меня в Кронштадте Сева Снитко (ныне покойный, убитый в войну с германцами); он привез венок на гроб Гули. На другой день состоялись торжественные проводы тела Гули. В часовне Морского госпиталя, в котором он скончался, было совершено отпевание, собравшее, не мало офицеров и дам, знавших Гулю. Возлагали венки от моряков, знакомых… Моряки поднесли мне подлинный Андреевский флаг, которым и покрыли металлический гроб с телом усопшего. У часовни были выстроены команды от всех судов, стоявших в порте. После отпевания процессия, при части войск и двух оркестрах, попеременно игравших похоронные марши, двинулась к Петропавловской пристани, где ждало уже небольшое военное судно для отвоза тела в Петербург с почетным караулом и священником, и, кроме того, в виде конвоира, то судно, на котором Гуля заболел во время службы. Когда процессия проходила мимо дворца коменданта Кронштадта Вирена (адмирал был впоследствии, во время революции, варварски убит ненавидевшими его за строгий режим солдатами-моряками), адмирал Вирен со штабом своим, в парадной форме, вышел к гробу, познакомился со мною и провожал гроб до пристани, где простился со мною, перед тем, как судно с телом тронулось. Был холодный, ветряный, сумрачный петербургский весенний день, почки едва-едва распускались. Когда судно следовало с телом Гули, на всех судах флота, в знак траура, были наполовину спущены флаги, а на броненосцах оркестры играли «Коль славен»… Когда судно с телом приехало к Петербургской пристани, то, кроме отряда от моряков (с оркестром), его (и меня) встретили на берегу те, кто хорошо Гулю знал – Ив. Ив. Максимов, З. А. Герард, пианистка В. В. Тиманова, дочь члена Государственного Совета Н. А. Зиновьева (сам он долго ждал на пристани, но, в виду запоздания судна с телом, уехал), Пузыревские и др. Провезли тело через город, поставили запаянный, металлический гроб в товарный вагон и на моих глазах поезд тронулся…
Также торжественно, с воинскими почестями, венками, при чудном хоре архиерейских певчих, после богослужения в Николаевской церкви (которую так любила Мамочка в детстве), похоронили Гулю на Лютеранском кладбище. Собралось множество знакомых, и зевак, привлеченных военным погребением. В Вильне стояла уже весна в полном разгаре. Был чудный день. Сияло солнце. Когда гроб Гули несли к могиле, сияла молодая зелень, цвели деревья, пели соловьи. Внезапно пошедший, при незаходящем солнце, крупный дождь, точно блестящими шпагами ударял в металлический гроб. Пропета у могилы последняя лития. При троекратном залпе сопровождавшего гроб пехотного отряда, гроб медленно поглощается могилою. Стучат о крышку его комья земли. Затем вырастает насыпь, обложенная венками из белых роз и других живых венков… И все кончено.
«С жизнью покончен вопрос!
Больше не надо ни песен, ни слез!»
Во все время длинных и пышных похорон, Мамочка держала себя настоящей героиней и христианкой, не плача, не падая в обморок, горячо молясь и находя в себе силы благодарить тех многочисленных друзей и знакомых, которые почтили память Гулеши своим присутствием.
Через год, по проекту художника Южанина, мы поставили на могиле Гули прекрасный памятник из красного и черного гранита, представляющий колонну на подставке со ступенями. На колонне – крест (символ веры), в медальоне в форме сердца (любовь) – портрет Гули на фарфоре. От креста висит кусок якорной цепи. Продолжение этой разорванной цепи, прикрепленной к морскому якорю, спускается по ступеням (разбитые надежды). Место, где стоит памятник, мы огородили посеребренной решеткою с входной дверцей и скамейкою. Таким образом, создалась наша фамильная усыпальница, где покоятся уже мои отец и мать и дети Гуля, Варюша и Боря. Якорь для памятника прислали мне вместе с цепью из Кронштадта моряки, товарищи Гули. Будучи в Кронштадте, я роздал сослуживцам все его вещи – револьвер, кортик и проч.
На памятнике, на нижней подставке, я поместил, в память Гулеши, следующее стихотворение:
«Все было в нем необычайно:
Таланты, сердце, ум и красота,
Возвышенность мечты, правдивые уста
И смерти скоротечной тайна…»…»
Из воспоминаний А. В. Жиркевича об истории рода, составленные в виде письма для старшей дочери Марии 9-15 января 1926 года, названные им «ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ»