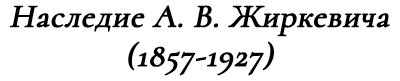Из переписки Екатерины Константиновны Снитко и Александра Владимировича Жиркевича
№ 1
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу.
20 декабря 1885 г.
Вильно.
Многоуважаемый Александр Владимирович!
Вы напрасно думаете, что я на вас сержусь за то, что вы обратились за справками о Дедушке к Тете, а не ко мне: мне и в голову не пришло обидеться этим, напротив, я вам от души благодарна, что вы захотели восстановить память о Дедушке, и жду случая, чтобы лично поблагодарить вас.
Думаю, что ваша заметка будет удачнее, чем биография Шверубовича, который непременно хотел сделать или, вернее, выставить Дедушку политическим деятелем, вожаком партии, что, сколько мне известно, совершенно неверно: Дедушка никогда не играл этой роли, да и не имел всех качеств, нужных для нее. Шверубович в своей биографии привязался только к случаю, чтобы написать хронику последних событий в здешнем крае, а о Дедушке говорит очень мало, хотя в некоторых местах он говорит о Дедушке довольно тепло. Во всяком случае, думаю, что вы лучше поняли всю глубину честной души Дедушки и не будете измерять пользу, принесенную им, только в той мере, в какой он был человеком современным.
Затем позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы потрудились в память Дедушки, и пожелать вам счастливого исхода экзаменов.
Уважающая вас
Е. Снитко.
P. S. Тетя и брат мой, который с неделю как приехал из Риги, благополучно сдав экзамены, просят передать вам поклон. Клеопатра Александровна все хворает, хотя припадки болезни сердца обнаруживаются гораздо реже.
[1] Ждем вас с нетерпением, добрейший Александр Владимирович. Помоги вам Бог покончить благополучно и приехать к нам веселым и здоровым. Надеюсь, что к тому времени и наша M-me Feiner будет здорова. Сейчас иду навестить ее.
Душевно уважающая
В. Пельская.
№ 2
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу.
январь,1887 г.
Москва.
Многоуважаемый Александр Владимирович!
Вам, вероятно, писала Клеопатра Александровна о нашем внезапном отъезде в Москву по случаю смертельной болезни друга Тети M-me Погодиной, так что Тетя имела утешение повидаться со своим другом и представить меня ей, чего Тетя давно желала. Свидание с умирающей произвело на меня сильное впечатление; таких всеми любимых и уважаемых людей, как M-me Погодина, приходится видеть немного, и я очень счастлива, что получила ее благословение и удостоилась увидеть ее: она сама потребовала меня к себе. Но разнообразные впечатления, испытываемые здесь, не мешают нам вспоминать о наших добрых знакомых и друзьях, и Тетю немало беспокоит неизвестность, в которой мы находимся о вас. Если бы вы нам написали в Вильно, ваше письмо переслали бы нам сюда, так как я отправила нашим людям наш московский адрес.
Успокойте нас, добрейший Александр Владимирович, и напишите нам сюда: мы остаемся здесь, кажется, до 8 февраля. Теперь, когда кончилась вся печальная церемония похорон, Тетя показывает мне достопримечательности Москвы, которая очень мне нравится. На прошлой неделе ездили мы в Троицко-Сергиевскую Лавру, где у мощей св. Сергия Радонежского молилась за вас. Кончаю свое письмо, прося вас еще раз написать нам в Москву. <…>
Уважающая вас
Е. Снитко.
№ 3
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу.
23 марта 87 г.
Вильно.
Многоуважаемый Александр Владимирович!
Сердечно благодарю вас за присылку ваших грациозных элегий, которые мы несколько раз читали и перечитывали всё с новым удовольствием. Скажу вам, так как вы желаете знать от нас некомпетентное мнение о ваших произведениях, что я всегда вас считала идеалистом, но не думала, чтобы в вас было так много такой поэзии и так много сочувствия к красотам природы. Это по содержанию, по форме же изложения, на меня по крайней мере, ваши произведения делают впечатление чего-то вырвавшегося на бумагу по вдохновению, а не плодом трудолюбивых, но бездарных гениев последнего времени. Как приятно, я думаю, обладать даром так легко и изящно высказывать свои мысли. Мне же только раз в жизни удалось и то с большим трудом написать четверостишие дедушке на именины. Позвольте мне спросить вас: кто из литераторов читал ваши произведения? Как вы счастливы, ежели знаете Кутузова! Мне его стихотворения чрезвычайно нравятся, и, говорят, он такой приятный человек в обществе. Впрочем, вы теперь, вероятно, ужасно заняты, и я совсем не претендую, чтобы вы отвечали мне теперь на мой, может быть, неделикатный вопрос. — В конце этой недели мы ждем брата, который благополучно сдал теперь еще один экзамен. Очень бы мне хотелось показать ему ваши стихотворения, но желание исполнить буквально вашу просьбу показать их теперь только одной Клеопатре Александровне удерживает меня, хотя, я надеюсь, вы думали не об Андрюше, когда писали это. — Письмо ваше, адресованное в д. Айзенштадта, попало к нам в дом Шейнюка, а за стихотворение, посланное Екатерине Владимировне, благодарит вас Екатерина Константиновна.
Желаю вам от всего сердца успеха в вашем экзамене и на литературном поприще.
Уважающая вас
Е. Снитко.
P. S. Надеюсь, что со временем вы познакомите нас и с прочими вашими произведениями.
[1] Моя Катя так хорошо высказала и свои и мои мысли, что мне нечего больше прибавить ко всему сказанному, уважаемый Александр Владимирович. Когда пожелаете утешить нас письмом, напишите между прочим: можно ли будет надеяться видеть вас этот год у нас в деревне, в этот маленький промежуток вашего отдыха?! Или я уже слишком много от вас требую, жду и надеюсь…
Душевно уважающая вас
В. Пельская.
№ 4
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
6 июня 87 г.
Вильна.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Пишу на бивуаках, а потому за чернила и бумагу не взыщите, не могу никак добыть и то, и другое хорошего качества! Очень рад, что посылкой моей угодил вам, хотя мне кажется, что перчатки на четыре пуговицы вместо трех вам не годятся?! Клеопатра Александровна получила от вас мои стихи и наговорила мне кучу комплиментов по их адресу; но в «Прощании с Карльсбергом» я нашел две неточности и смею предположить с вашей стороны пропуск при переписке и моем неразборчивом почерке. В одном месте надо читать <…> «трепет». В другом: «горит в нем светочем…», а не просто: «горит светочем…». Клеопатра Александровна списывает мне оба эти стихотворения, и мне самому было приятно их перечесть — как будто и не я их писал! Что касается до разрешения читать мои скромные стихи вашим друзьям, то этим, кроме удовольствия, вы мне ничего иного не доставите!.. Я перестал скрываться и таить свой талант от людей и повторю теперь то, что уже раз говорил вам лично: «Буду счастлив, если достигну моей цели, чтобы стихи мои хоть на миг развлекли кого-нибудь, заставили отвлечься от окружающей ежедневной прозы и ее невзгод!» Вполне уверен, что стихи мои будут вами читаться тем лицам, которым и сам бы я их прочел, да, кроме того, мне еще приятнее доверить вам мою музу в знак того, как я ценю вашу любовь ко всему честному, изящному и хорошему. Итак, раз навсегда вверяю вам «подругу дней моих суровых»! Помогите мне достичь заветной цели, чтобы хорошие сердца в моих стихах находили хоть крупицу священного огня поэзии, которой в наш век один способен примирить человека с жизнью, Богом и самим собою!.. Кончаю мою философию (скверная привычка на письме высказывать свои мысли и чувства!). Перейду к действительности. Я решил не ехать на Юг к родным в этом году, а приехать еще раз, перед отъездом в Карльсберг, чтобы набраться в нем и сил, и песен на скучный предстоящий год петербургского прозябания. Родные по крови — хорошая вещь в жизни; родные по сердцу еще лучше, и последних я всегда предпочитаю первым… Моих родных по крови я буду видеть целый год в столице, а с вашей семьей не увижусь до окончания Академии — вот мотивы, которые убедили меня ехать к вам, где мне так хорошо жилось и мечталось. Приеду в четверг на этой неделе с тем же поездом, как и прежде, но умоляю Андрея Константиновича не конфузить меня и не выезжать на встречу; я его обниму так же тепло в Карльсберге, как на вокзале!.. Итак, обстоятельства желают, чтобы я написал не «прощание» с Карльсбергом, а новые стихи под заглавием «до свиданья» с ним! Еще раз благодарю за ваше письмо и прошу кланяться вашему брату!
Преданный вам, уважающий
Александр Жиркевич.
№ 5
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
1 августа 1887 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Только что получил ваше письмо и Варвары Ивановны. Меня тронуло то, что вы не забыли меня и так мило напомнили своей весточкой о днях моего счастливого пребывания в Карльсберге, когда я вполне отдыхал и телом, и душою. Правда, уже и теперь занятия отняли у меня ясность духа и мысли; но все же сил еще довольно, хватит, и этим я обязан и карльсбергскому благодатному воздуху и вниманию вашей семьи!.. Если бы не моя болезнь, такая непрошеная и неожиданная, я мог бы сказать, что жизнь в Карльсберге мелькнула безоблачно. Я, конечно, и не думал обидеться вашей приписке <…>. В ней вы невольно оказались сами поэтом, в чем я вас подозревал, хотя вы тщательно скрываете и свои хорошие стороны и недостатки! Ваше прелестное описание восхода солнца тронуло меня, как поэта, до глубины души, и если минута вдохновенья найдет, то я, может быть, и пришлю вам перевод на стихи вашей поэтической прозы. Теперь я понимаю, отчего вас так трогает все прекрасное, и больше всего поэзия, этот дар Неба, данный человеку, чтобы в часы невзгод и сомнений отрешаться на миг от земного в мир чистых идеалов, где — вечный свет, вечная правда, вечный Бог! Не знаю, что было бы со мной, если бы не минуты творчества и не способность уноситься на несколько минут в день туда от сутолоки!.. Как прекрасно охарактеризовал поэзию Жуковский:
«Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли!..»
Надо же кого или что-нибудь любить в жизни!.. Любите поэзию, и в награду за эту любовь она вам даст такие минуты наслажденья, какие ни люди, ни блага земные дать не могут! Поэзию от того еще стоит любить, что и религия, и Евангелие — та же чистая поэзия, та же вечная область идеалов, тот же неотразимый призыв от преходящего к вечному, неизмеримому, доступному только вере! Скажу вам откровенно, что ежели я не утратил веры, то обязан опять-таки поэзии, не позволявшей житейской грязи засосать меня в свои тиски. <…> Но простите мои фантазии: рука расходилась, а сердце диктует и диктует!! Как важно в жизни уметь сказать вовремя: «до- вольно!» Итак, довольно на сегодня! (Помните Тургеневский эскиз на эту тему?!) Прошу вас передать мой поклон Варваре Ивановне и Андрею Константиновичу. Писать Варваре Ивановне буду немного погодя, — пусть простит меня за это, а рисунок домика, какой он есть, умоляю выслать в холодный неприютный Питер: мне дороги воспоминанья, связанные с рисунком, а не его детали. Закончу письмо вопросом: согласны ли вы с моей параллелью — религии и поэзии, или нет? Кстати, что теперь читаете, и когда собираетесь ехать в Вильну? Хочу писать Екатерине Антоновне Плотниковой, я уехал, с нею <не> простившись. От Клеопатры Александровны получил письмо, как будто и веселое. Но по себе знаю, что не всегда содержание писем бывает отражением всей души. На бумаге всего не передать, что высказал бы на словах. Не забывайте же меня, бедного поэта, которого жизнь пригвоздила к скучным книгам!..
Преданный и уважающий вас
Ал. Жиркевич.
№ 6
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
2 сентября 1887 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Вы, конечно, позволите мне говорить с вами откровенно, а потому не сердитесь, если я немного не соглашусь с вашим последним письмом!.. Я опять-таки повторяю, что ваше письмо было поэтической страницей, хотя там описания восхода и не было; но ведь произведения человеческого ума (в том числе и письма) могут быть поэтическими по духу своему, без наличности описаний, картин и т.п.!! Мне показалось поэтическим ваше воспоминание о первых христианах, приветствовавших восход и т.п. Во всяком случае, я надеюсь, вы не обиделись на меня, что я в вас подметил ту черту, которая так дорога для меня, — поэтическую?! Любить природу, все прекрасное, понимать все прекрасное и искать его в жизни — разве это не признаки поэтической души? А в вас все это есть, без сомнения!.. Как же понять ваше выражение, что я «вообразил» вас поэтом?!. В свою очередь оговорюсь относительно своего письма, что никогда (насколько помню) не объявлял себя врагом науки, а если в письмах к вам жаловался на «скучные книги», то только потому, что всегда делал большую разницу между «наукой» и «книгами». Книги служат <для науки>, для развития человека и цивилизации, но не все книги. Наукой, в тесном смысле, я называю не все то, что дает нашему уму пищу, материал, а все то, что способствует нашему развитию, умственному прогрессу. Существуют науки, двигающие человечество вперед самостоятельно, и существуют науки, дающие только материал для работы специалистов, посвятивших свою жизнь на известную отрасль знания и закрывших глаза на остальной мир. К последним наукам принадлежат такие сухие, как статистика, наука права (уголовного, гражданского и т.п.). Для изучения этих наук надо посвятить на них всю жизнь и иметь к ним призвание, так как такие ученые — не более как чернорабочие, сортирующие материал и сдающие его людям, способным к обобщениям, к идейному творчеству, которые и пользуются этим материалом для своих целей, т.е. для науки и ее прогресса. Наша Академия, если только ограничиться кур- сом и не развивать себя самостоятельно, создана для изучения наук, которые я назвал только материалами для ученых, обобщающих и творящих, а следовательно, двигающих науку… Нас готовят быть сухими специалистами, и чем менее мы будем рассуждать и чем более слепо держаться законов и их мертвой букве, тем начальство нас будет более любить и ценить. Но, как я сказал, на эти науки надо положить целую жизнь, а главное, надо быть к ним способным, любить их. Поступая в Академию, я не спрашивал себя, с каким курсом наук я встречусь, а имел и имею более высокую цель — выйдя из Академии, быть полезным обществу и, главное, солдатам, которых люблю и уважаю. В этом отношении я совершенно расхожусь во взглядах с моим начальством: я прежде всего хочу быть на судейском стуле человеком, а потом уже ученым специалистом; начальство же хочет обратного!.. Из меня хотят сделать поклонника статей закона в их безжизненной книжной форме, а я хочу сохранить в себе способность всегда в подсудимом видеть человека, которого надо жалеть, лечить, снисходя к его слабостям и обстоятельствам жизни и применяя к нему закон не буквально, а сообразно с обстановкой его преступлений. В наших военных судах нет присяжных, а потому у нас, более чем где-либо, судьи-люди, так как я не понимаю, отчего наши солдаты обращены в людей, которых надо судить особо от прочих граждан?!. Теперь вы согласитесь, что разлада в моем будущем с моим настоящим не будет, — цель моя ясна, и к ней я буду стремиться всеми силами, а Академия мне дорога потому, что она даст мне право попасть на поприще служения человечеству, о чем я только и мечтаю. Конечно, и в Академии есть предметы, меня интересующие; но их мало, вот почему так тяжело мне одолевать курс, сознавая, что я не создан для зубренья, копанья и казуистики, и что весь этот хлам, изменяющийся ежедневно, можно, не заучивая, найти в наших законах и быть хорошим судьею, не разбивая здоровья и губя сил, как это делаю теперь я! Да, труды мои — это жертва, которую я приношу сознательно Отечеству, и этим я горжусь! Под «книгами» я и понимаю этот сухой материал цифр, выводов, правил, которые забываются так же скоро, как скоро заучиваются, нисколько не развивая!! Поэтому не удивляйтесь и не сочтите меня за врага науки, если я с живой, впечатлительной душой не могу сделаться ходячим сборником правил и законов, а хочу сохранить эту душу в ее неприкосновенности и чистоте!! Повторяю, смело можно быть хорошим судьей, не изучив и десятой части того, что изучаю я теперь, и это сознание ненужности для меня изучаемого и служит источником нравственных пыток.
Не знаю, ясно ли я выразил свои мысли в этом письме? Слишком много надо бы было сказать на эту тему, и жаль, что мы лично не побеседовали в Карльсберге о моем будущем и моих планах!
Но перейду от теорий к жизни. Вчера я сдал очень хорошо мой экзамен и рад этому потому, что теперь могу отдохнуть и заняться хоть эти две недели своим саморазвитием. Устал я ужасно, и, как всегда, явилась мысль: «дотяну ли я?» Но сил еще довольно, энергии тоже, а цель моя так высока, что окрыляет меня, и остающийся год надеюсь одолеть благополучно, так как большая половина сделана!..
Сегодня вспомнил приютный Карльсберг и подумал, как было бы хорошо теперь мне подышать у вас чистым воздухом полей, лесов, не думать о назойливых вопросах дня, не встречаться с массой скверных ненавистных людей.
Не примите мое письмо за лекцию. Я просто хотел побеседовать с вами, не вызывая на откровенность с вашей стороны, если вы, как выразились, «не желаете и не умеете открывать многое». Последнее, конечно, очень грустно, так как вы не поверите, как приятно хорошему человеку открывать свою душу!.. Простите за помарки в письме: у меня привычка их делать, конечно, неверная!
Так как Андрей Константинович уехал, то передайте мой поклон Варваре Ивановне. Буду ждать от вас хоть парочку слов и прошу задавать вопросы, я постараюсь ответить честно, откровенно и дружественно, как всегда! Желаю вам всего хорошего.
Преданный и уважающий вас
Александр Жиркевич.
№ 7
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
<12> окт. 87 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Отвечаю на ваше письмо довольно скоро; но ответил бы еще скорее, если бы не масса литературной работы и новых литературных знакомств, отнимающих у меня много времени.
Очень рад, что пребывание ваше в Риге было для вас приятно, и благодарю, что, вернувшись из приятного путешествия, не забыли меня, столь далекого теперь от Вильны и ее интересов!! Прилагаю некоторые последние стихотворения, более оконченные, и желал бы знать ваше мнение, мнение беспристрастного судьи — читателя, а здешним собратьям-поэтам я не верю.
Из новых поэтов, с которыми я познакомился, назову знаменитого Фофанова, который теперь обращает своим талантом общее внимание, и вполне заслуженное. Вчера я провел у него вечер в обществе нескольких юных поэтов и своим стихотворением «глыбой», вам известным, произвел фурор. В эту субботу Фофанов будет у меня. Это — личность замечательная, как человек и как поэт, и им занят теперь весь литературный Петербург, а мне очень приятно, что с первых же шагов мы с ним сошлись. Не знаю, буду ли в этом году что-либо печатать, так как нет времени работать усидчиво, а выпускать в свет неоконченные вещи не стоит! Но меня уговаривают сильно отдать что- либо напечатать, и вот теперь я колеблюсь, не зная, слушать ли себя или тех, с которыми приходится встречаться.
От Марк я получил любезное приглашение на свадьбу их дочери и, конечно, поблагодарил за внимание письмом. Меня тронуло, что и в этой семье я не забыт!! Какова была свадьба и что за личность г. Скачков?
На днях был у Саши Лунского. Он говорит, что Володя строит церковь на кладбище; разве в ней принято венчаться? Подозревали мы с ним, что Володя и тут прихвастнул, так что вы напрасно его похвалили!..
Ожидаю с нетерпением начало картинных выставок, где всегда много прекрасных вещей. Были на «Фаусте» с знаменитым Фигнером в роли самого Фауста, недели две тому назад, и действительно восхищался его голосом и приличными манерами на сцене.
О себе ничего сообщить не могу, кроме того, что живу в мире идеалов, форм и звуков, куда неприятным диссонансом врываются вопросы дня, неинтересная работа и разные житейские сюрпризы. Но все это — неотвратимо, а потому и примиряешься с обстановкой!! Надеюсь, что время от времени дадите о себе весточку хоть парой слов; а пока желаю вам всего хорошего, а главное беречь себя и не простуживать горло.
Неизменно преданный вам
Александр Жиркевич.
№ 8
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
11 ноября 1887 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
С большим удовольствием посылаю вам стихи, посвященные мною Тимановой, хотя мне почему-то кажется, что вам они не понравятся. Но прочтите их и скажите свое мнение. Я теперь погружен в литературу и приобрел много новых литературных знакомств, кроме знакомств с разными художниками. Между прочим, знаменитый художник Сверчков посвятил мне одну картину не масляными красками, а пером, где изображена тройка, в ответ на мое стихотворение, где я аллегорически изобразил его несущимся на русской тройке к Храму Славы. Жаль, что стихотворение слишком велико, а времени у меня мало, а то я бы вам его прислал, так как оно теперь здесь в ходу, и недавно у Сверчкова был ужин, где присутствовали Зичи, Каразин и другие художники. Каразин прочел мое стихотворение с энтузиазмом, и при последних словах все чокнулись за здоровье
«русского художника», которого я и изобразил в стихах. Вероятно, скоро появятся мои произведения в «Живописном обозрении» и в «Наблюдателе», тогда сообщу вам. Недавно я получил мой первый гонорар и употребил его на доброе дело, чтобы память о первом заработке на поприще словесности осталась подольше в душе. Но довольно о своей жизни, где я теперь мало принадлежу себе и живу целыми днями.
Очень рад, что Володя Лунской сказал правду; вот что значит лгать так долго: теперь все невольно думаешь — не врет ли? Получила ли Варвара Ивановна мои письма? Я не нахожу слов благодарности за ее ласку и внимание ко мне. Как здоровье Клеопатры Александровны? Жива ли она? Всё какие-то предчувствия тревожат меня!
В Вильне все женятся и выходят замуж. Что ж, так и следует! Для девушки настоящая жизнь и свобода только и начинаются с минуты вступления в брак, конечно, если выбор ее упадет на порядочного, образованного человека! Тип старой девы, озлоблен- ной на всех, черствой и подозрительной, мне крайне несимпатичен, так как у меня в родне есть один такой экземпляр, и я его из- учил достаточно; да и прежде встречался неоднократно с такими же изломанными особами. Но, однако, пора и честь знать, т.е. закончить мою философию и наблюдения опыта!
Желаю вам всего хорошего, а главное веселиться и беречь свое здоровье.
Варваре Ивановне целую ручки.
Всегда готовый к услугам, уважающий вас
Ал. Жиркевич.
№ 9
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
21 ноября 1887 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Спешу поздравить вас с днем вашего Ангела и пожелать вам всевозможного счастья и благополучия в жизни. На этих днях буду писать вам, Варваре Ивановне и Клеопатре Александровне, а пока прошу вас передать им мой сердечный привет. Работы масса, и академической, и литературной, так что и скучать некогда. Итак, до скорого свиданья в следующем письме, где, быть может, приложу что-либо из новых своих произведений. Неожиданная помощь изменила к лучшему мою обстановку, и материально я вздохнул легче, а это не могло не отразиться и на душевном состоянии. Я, кажется, писал вам уже, что от знаменитого художника Сверчкова получил в подарок (за стихи) картину «Тройка», с посвящением ее мне. Как жаль, что не могу показать ее вам, чтобы и вы полюбовались этой талантливой вещицей!
Примите уверение в неизменном уважении и преданности.
Ал. Жиркевич.
№ 10
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
12 декабря 1887 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Ваше последнее письмо так живо заинтересовало меня, что я решил лучше отложить немного ответ на него и ответить подробнее, как я смотрю на вещи!.. Ну что ж, будем спорить!
1) Начну с того, что меня удивило, отчего вам показалось, что затерявшееся письмо ваше должно нас было «немного поссорить»?! Я всегда уважал чужие мнения, в вас я заметил то же; что ж могло нас поссорить, если бы мы решились обменяться честными и открытыми мнениями? Кроме того, разве секрет только то, что неприятно выслушивать, и разве вы не предполагаете во мне столько гражданского мужества, чтобы смело взглянуть судьбе в глаза и собственноручно отказаться от несбыточных надежд, даже если бы от них зависело счастье моей жизни. Ради Бога, не со мной с одним, а со всеми поступайте прямо, открыто и не щадите чужого сердца; поверьте, если оно благородно, то пощада только возмутит его, а честный удар заставит, правда, об- литься кровью, но от таких ударов люди редко умирают!..
2) Не читайте никому моих стихов: я их переписывал для вас, видя в вас чувствующее и мыслящее существо; слава поэта меня не манит, а толпа и масса, в которой всегда большая половина ходячих кукол, пугала меня и заставляла уходить в себя! Если несколько человек забудутся хоть минутку над моими стихотворениями, то это — высшая для меня награда, а таких минут я уже испытал довольно в жизни, поэзию не брошу и считаю, что поэзия всегда «современна» <…> Да и что такое значит «современно»?! Кто определит это слово, и, право, лучше писать стихи, но писать искренно, как Бог на душу положит, чем говорить обо всем слегка, ничего основательно не зная, жить интересами минуты и лгать, с сознанием, что «лжешь», — а таких господ, считающих себя современными, теперь на Руси масса, и здесь, в сто- лице, я их довольно встречаю в разных слоях общества. Не верьте этим фарисеям и лжепророкам, поступайте так, чтобы не являлась тут же мысль: «А ведь я солгал. Зачем я это сделал?!»
Говорю это к тому, что нет занятия, труда, таланта «несовременного»: все современно, так как все от Бога. Только та и разница, что одна современность пуста и лжива, а другая — великая и святая, так как идет от чистого сердца, из честной души, а в них Бог, который не ошибается, но дает «счастье, радость, жизнь»! Моя же Муза принадлежит к последней категории, так как в ней нет лжи и ее можно обвинить разве в бесцветности, в безыдейности. Я вам буду, если хотите, посылать свои стихи, но никому не показывайте их, особенно тем людям, которые находят писание стихов пустым времяпрепровождением, утопией; поверьте, многие из них и Христово учение назовут утопией. Так как поэзия и Евангельские истины имеют один источник — душу человеческую, как частицу души Божией. И, ради Бога, не слушайте этих людей, а то не заметите, как окаменеет ваше хорошее, отзывчивое на все прекрасное сердце и к Богу, в день Суда вы принесете не чистое, неуловимое и вечное существо души, а камень, бесчувственный и мертвый, неспособный слиться с Божеством как с своим прообразом! Я много думал об этом и всегда боролся с этими врагами человечества, которые, разрушая идеалы, религию, чувство прекрасного, делают нас неспособными на истинное счастье, заключающееся в том, что- бы быть в состоянии посредством молитв, поэзии, музыки уноситься от дрязг земли в область идеала, где вечный Бог!!
3) Повторяю сказанное в первом письме: «Для девушки на- стоящая жизнь и свобода только и начинаются со дня вступления в брак». Жизнь и свобода, конечно, не одно и то же. Но пользоваться свободой, не живя вполне, немыслимо. Объяснюсь. Девушка, как бы ни обставлена была ее жизнь (книгами, обществом, музыкой и т.п.), не знает жизни и не может знать ее: тысячи препятствий восстают перед ней, как только она захочет переступить за границы, установленные «светом» для ее сверстниц. Она хочет пойти в театр — нельзя, так как дается такая-то «неподходящая пьеса»; она хочет поехать кататься — одной нельзя; ей захотелось бы познакомиться с таким-то или такой- то, но ей ведь бывает нельзя, да и общество девиц не всегда удовлетворяет, в кружках же литературных, политических салонах девицы не бывают; ей хотелось бы прочесть интересную книгу — девицам ее читать не следует, и приходится покориться. Ни поехать куда-либо, ни сказать многого, что волнует душу и просится на язык, современная девушка не может, так как это не принято, неприлично для нее. Следовательно, и жить приходится как-то вполовину. Не участвуя вполне в жизни, разве можно быть вполне полезной обществу?! Нет, нельзя, так как, чтобы приносить пользу, надо знать жизнь во всех ее проявлениях, видеть ее вблизи, как можно чаще испытывать ее уколы, удары, обдумать ее задачи. А разве это доступно девушке, живущей под крылышком у родных, опекунов, из любви к ней старающихся об ее счастье и об удалении всего, что может грозить ей опасностью, а следовательно, сблизить с жизнью?! Сама жизнь кажется девушке совсем в ином свете, так как этими элементами жизни являются и чувство матери, и чувство супруги, а эти чувства девушке недоступны! Сам Бог создал все живущее так мудро, что в мире животных, растений, рыб — все любит, все стремится к семье, все думает об устройстве семейной жизни, об ее задачах. Отчего же это так? Отчего, хотя многие и боятся чувства любви, — все любят на свете, и сколько света, тепла и задач вносит это чувство!! Нет, девушка не знает и не может знать вполне жизни, следовательно, не может быть вполне счастлива, не может быть вполне свободна. Брак, конечно, как и все на свете, рискованная вещь, но, говоря, что девушка, выходя замуж, становится свободной, я предполагал не всякий брак и не со всяким человеком, а с таким, который сам любит свою личность и свою свободу, а потому, как порядочное существо, будет уважать их в той, которая разделит с ним жизнь его! С таким человеком жизнь раскрывается вполне для счастья; в нем соединяются муж, брат, друг, защитник. Сковывавшие условия замкнутой девичьей жизни падают, и жизнь — общественная, благотворительная, умственная — раскрывается перед замужней женщиной так, как никогда перед девушкой! Здесь, в браке, нет рабства, и нельзя верить холостякам, говорящим фразы вроде того, что они, женившись, «теряют свободу», так как и они, как девушки, не знают семейной жизни и не могут правильно судить о ней. Взгляните вокруг себя: кругом процветает брак, наши родители, друзья, родные, лучшие люди общества — все были женаты, замужем, а ведь это самые дорогие, уважаемые для нас лица!.. Свобода без жизни, в полном ее смысле, — немыслима. Разве жили наши боярышни старых времен в теремах за замками, и разве были они свободны? Нет, тысячу раз нет! Я уверен, что большинство барышень наших боится брака <…> Умирают близкие, родные, теряются средства, и как часто девушка остается одна в мире, без друга, без совета, а годы прошли, и на брак рассчитывать нельзя. Конечно, есть «старые девы», умеющие сохранить свою душу от сухости и холода и отдаваться интересам братьев, хозяйству; но ведь это все — частные интересы, а человек создан приносить пользу обществу, идет в общество, помогает там не только своим близким, но всем страждущим <…> и нуждающимся, а это счастье помощи ближнему вполне только доступно женщине, а не девушке! Вот мои взгляды! В письме все не изложишь, но, в общем, хоть и бессвязно, я высказал, что хотел. Я, как только кончу Академию, сам постараюсь жениться, так как чувствую, что «годы проходят, все лучшие годы», а у меня нет друга, с которым я мог бы говорить обо всем, не опасаясь, зная, что встречу сочувствие и не буду покинут в трудные минуты. Даже по характерам женщина дополняет мужчину и наоборот, и полная гармония человеческих душ только и возможна в браке. Она налагает известные обязанности <…>, но дает то, что выше всего в мире, — полноту счастья, дружбу, душевный мир!
Однако пора и окончить это письмо, написанное между двумя занятиями приготовлений к экзамену. Варваре Ивановне пишу отдельно. Будьте здоровы, и если не согласны с моими взглядами, то пишите откровенно и не щадите меня, не лишайте себя наслаждения говорить правду, не боясь обидеть.
Примите уверение в совершенном почтении.
А. Жиркевич.
№ 11
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
4 января 1888 г.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Получили ли вы мое последнее письмо, недели две тому назад посланное? Из письма Варвары Ивановны вижу, что вас заинтересовало письмо гр. Толстого, и хотя она просит меня не удовлетворять ваше и ее любопытство теперь, а после моих экзаменов, но я решил совершить подвиг, списать копию с письма ко мне Толстого, боясь послать подлинник в простом письме, чтобы эта драгоценность, которая со временем будет напечатана, не затерялась. Чтобы вам ясно было письмо, замечу, что в письме к Толстому я сомневался в двух вещах: 1) Не бесполезно ли устраивать общество, когда борьба с пьянством была ведена всегда отдельными лицами и так всегда будет продолжаться? На мой взгляд, самыми верными членами будут такие же непьющие, как я, которому ничего не значит дать такой обет. 2) Возможно ли существование общества, построенного на одной нравственной почве, и чем обязательным будут связаны члены, чтобы не изменять обещанию данному: «не пить и не угощать у себя в доме других пьяными напитками» (такова основная мысль Толстого, его пророка). Между прочим, я видел список, в котором Толстой записал своих маленьких дочерей, и написал ему, что считаю странным такое насилие над детьми, к тому же, на мой взгляд, бесполезное, так как какие же они сознательные члены и распространители учения?! Писал я еще кое о чем, да жаль, что не осталось копий с моего письма, а здесь писать больше некогда. Заметьте, что Толстой называет общество «согласием» в ответ на мое письмо, так как всякие общества в России запрещаются без разрешения правительства, а кроме того, название это, когда прочтете письмо, станет вам ясным. Так как Толстой вызывает меня на ответ, то я послал уже ему громадный ответ; не знаю, получу ли и на него что-либо.
Варвара Ивановна нехорошо поняла мое письмо: цели общества я сочувствую, оттого и записался в него, но никак не Толстому, не понимая (да и теперь не убежденный), возможно ли создать на одной нравственной формуле что-либо серьезное. Он пишет, что «да», а я написал опять против, и еще несколько возражений. Не пишу Варваре Ивановне, так как каждая минута дорога. Копия с письма ко мне Толстого ходит по рукам в Питере и составляет событие дня.
Будьте здоровы, и желаю веселиться. Андрею Константиновичу поклон, а у Варвары Ивановны целую ручки.
Преданный и уважающий вас
Ал. Жиркевич.
Когда прочтете копию, то не могли бы вы ее вернуть обратно? У меня постоянно спрашивают подлинник, а мне его жалко давать, так как пачкается! <…> Письму все удивляются, так как много надо заинтересовать Толстого, чтобы он ответил, да таким огромным письмом. Не скрою, что мне лестно было его получить и иметь право на него ответить.
№ 12
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу
16 января 1888 г.
Вильно.
Многоуважаемый Александр Владимирович.
Простите, что только теперь собралась поблагодарить вас за присланную копию с письма графа Толстого и ответить на ваши два последние письма.
Письмо графа Толстого очень заинтересовало нас, но нам не все ясно в нем: по-моему, общество трезвости должно иметь задачею борьбу с пьянством, а не с теми лицами, которые позволяют себе иногда выпить, не впадая в излишество. Я понимаю еще, что можно отказаться от вина самим, но не угощать гостей и Андрюше и мне кажется в некоторых случаях совершенно невозможным. Из письма же Толстого мне не ясно, могут ли лица, которые не согласны вполне с ним, вступить в его согласие? Потом, я не понимаю, отчего бы Толстому не предоставить свой устав на утверждение Правительства. У него, вероятно, есть связи, и ему, я думаю, не трудно будет добиться этого. Цели общества я от всей души сочувствую, но я сомневаюсь, чтобы оно привело к каким-нибудь результатам, а самой записываться в него мне не хочется, тем более, что я не вижу, чем я могла бы быть полезна в нем.
Но устав общества мне хотелось бы знать, и я была бы вам очень благодарна, если бы вы прислали нам его, когда он будет выработан.
В Вильно я от многих слышала мнение, что граф Толстой делает и пишет, все это имеет целью порисоваться. Это мнение, кажется, еще более вкоренилось с тех пор, как он затеял согласие против пьянства. Особенно его упрекали за то, что после своего имени немедленно он поместил имена своих лакеев с обозначением их должностей. Но мне не хочется верить, что все это неискренне, по прочтении присланного вами письма. Я еще меньше, чем прежде способна поверить возводимым на него подозрениям.
Праздники прошли для нас очень тихо, но вместе с тем очень приятно. Так как у Андрюши почти все время болели ноги, то мы только раз с ним танцевали, затем были два раза в театре и раз в концерте (певицы Белохи и виолончелиста Портена). Но вообще в нынешнюю зиму я довольно много танцую: были мы, между прочим, два раза в Дворянском клубе, где я прежде не бывала. Первый мой выезд в Дворянский клуб был очень веселый, а второй вечер был очень немноголюдный, и сначала вечер шел очень вяло, зато мазурка все исправила, и все оставшиеся оживились. Думаю и еще когда-нибудь поехать туда. Мои занятия пением и английским языком подвигаются не много. Соловьева, моя учительница пения, думает устроить в феврале нечто вроде публичного экзамена или концерта своих учениц и учеников. Я этого немного побаиваюсь, но, кажется, мне этого не избежать. Не знаю наверное, что мы будем петь хором, а solo, мне кажется, придется петь «Ave Maria» Шуберта. Ужасно страшно! Это довольно трудная вещь.
В понедельник у вас экзамен: от души желаю вам успеха и, не желая дольше удерживать вас от ваших занятий, кончаю это письмо. Тетя познакомилась с вашей Maman, которая сказала, что ваше зрение очень ослабело: неужели, в самом деле, вы не можете поменьше утруждать его. Желаю вам всего хорошего.
Уважающая вас
Е. Снитко.
№ 13
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
30 января 1888 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Если я становлюсь невежей и неаккуратно отвечаю теперь на письма, то это, как вам известно, от меня не зависит! Остается три месяца работы, и от них все зависит, т.е. итог каторжного труда за целых три года! Но я все же не лишаю себя наслаждения — вести переписку с людьми, мне сочувствующими, и не поверите, как приятно, улучив свободную минутку — прочесть задушевное письмо и ответить на него! Не сердитесь же на мою неаккуратность и не лишайте меня хоть время от времени удовольствия — получать ваши письма, чем вы исполните своего рода христианский долг поддержки ближнего в трудные минуты его жизни!
Вчера начались у нас практические занятия, состоящие в речах, я был защитником и сказал такую горячую и дельную речь (это не мое, а общее мнение), что заслужил и похвалы начальства и лестные отзывы товарищей. Но речь эта меня очень измучила нравственно, так как приходилось первый раз долго говорить перед большой аудиторией и говорить самостоятельно, построив по личному убеждению всю свою защиту. Мне невольно приходит на ум, что ежели и в будущем, на практике, каждая за- щита так дорого будет мне обходиться, то надолго ли меня хватит?!. А я принадлежу к числу лиц, которые способны «поло- жить душу за други своя». Теперь мне и в Академии придется еще несколько раз говорить речи, и так протянется до половины марта, а там — последние экзамены, и я скажу: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…». Устал я, сильно устал, и, если судьба не готовит мне сюрпризов, хотел бы тот год, что проживу в Вильне, отдохнуть, отдавшись литературе! Вас пугает ослабление моего зрения; но я в этом деле, может быть, сам слишком осторожен и берегу глаза, которые вообще мало повреждены, но вечером чтения не выносят. Боюсь потерять зрение и стать преждевременным калекой, который всем будет в тягость, не говоря уже о себе самом.
Теперь здесь гостят мои хорошие знакомые Максимовы, и о виленских удовольствиях и жизни я имею подробные сведения, даже знаю, кто из интересующих меня особ и как был одет на вечерах. Видите ли, какой я стал сплетник?!
Здесь теперь восторгаются последними произведениями Гончарова и много говорят о Толстом. Читали ли вы новые сочинения первого из них и как их находите?
Хотелось бы еще писать, да раскрытые книги смотрят на меня с укором, намекая на необходимость беседовать с ними. Неужели всю жизнь придется всегда откладывать приятное во имя насущного, необходимого?
На днях ночью я написал удачное стихотворение — значит, Муза меня не покидает. Желаю вам всего хорошего. Дорогой Варваре Ивановне пишу отдельно; прошу вас и Клеопатре Александровне передать мой поклон
Глубоко уважающий вас, преданный
Ал. Жиркевич.
Поговаривают о войне. Чем она будет, пожалуй, и мне придется идти в жертву чужим и непонятным для меня интересам. К чему ж потерянного 20 лет труда?
№ 14
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
7 февраля 88 г.
С.-Петербург.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Как вы себя мало бережете, что простуживаетесь и схватываете катары! Ведь с этим шутить нельзя, тем более, что еще так недавно вы еще были так больны! Буду ждать с нетерпением известий об окончательном вашем выздоровлении.
Вас интересуют примерные наши суды? Они устраиваются в аудитории, причем роли председателя, членов суда, секретаря, прокурора и защитника распределяются между офицерами по очереди, причем каждый из нас должен хоть один раз исполнить каждую из этих должностей. Дела нам дают старые, уже решенные, но приходится самому много работать, разбирая и составляя конспект речи. Тут же сидят — начальник Академии и профессора, которые, по окончании дела, высказывают свои взгляды, иногда очень не благоприятные и не стесняясь. Вообще ораторов между офицерами на нашем курсе мало. Очень жаль, что вы попали на дело, где обвинял Бек: человек он хороший, но как офицер — поразительная бездарность!
Вы пишете, что мне, быть может, удастся избежать смерти в случае войны, сидя в тылу армии и только приговаривая к наказаниям других. Позволю себе по этому случаю высказаться откровенно. Недавно у нас один из профессоров, после лекции, разговаривая с нами на ту же тему, нарисовал ту блаженную картину, которую представляли последнюю войну в тылу действующей армии наши военно-судебные офицеры. Этот господин рассказывал, что юристы ничего не делали, жили себе удобно, уютно, и в то время, когда их братья — умирали и гибли от ран и тифа, эти господа резались в карты и пьянствовали. Нарисованная картина, очевидно, очень была по душе профессору и пришлась по вкусам большинству офицеров; но мне тогда же стало гадко и как-то совестно. Нет, подумал я, надо очень низко пасть нравственно, чтобы желать такого прозябания. Лучше смерть, чем это удобство, комфорт!! И я мысленно дал себе слово, в случае войны, если действительно судебное ведомство будет играть только роль каких-то паразитов армии, — уйти в строй, туда, где люди борются за жизнь, за родину, за семью! Конечно, при оборонительной войне я буду сознательным бойцом, но чувствую, как бессмысленна будет моя смерть, если лягу в войне наступательной, против врага, к которому вражды не питаю, за интересы, о которых мне даже не объявят! Но, нечего говорить, что и такая смерть — бессмысленна, но честна, и я ее предпочитаю прозябанию в тылу армии. Не удивляйтесь этим строчкам: во мне течет кровь целых поколений, отдавших себя на службу родине и не раз за нее кровь «во брани» проливавших, стыдно было бы мне, их прямому наследнику — отвернуться от русского солдата, который пойдет, как и шел всегда, безропотно на смерть и лишения. Верьте мне, что я говорю не фразы, и, если меня не станет, вспомните эти слова хоть изредка! Давно какие- то предчувствия волнуют меня! Я не обманываю себя, война, если не вспыхнет в этом году, вспыхнет очень скоро, и мне придется доказать на деле, что я всю жизнь без фраз умел жертвовать собою, когда это находил нужным, по убеждению! Но довольно заглядывать в будущее, которое зависит только от Бога!
Вы желали бы иметь мои последние стихи, которые вызвали здесь в моих собратьях по перу очень благоприятное впечатление? Исполняю вашу просьбу с удовольствием. Сообщаю вам, что на днях я встретился с Плещеевым, даже говорил с ним о поэзии, и на днях, по его приглашению, пойду к нему побеседовать. Я при нем читал эти стихи, и они ему понравились.
Все эти дни я чувствую какую-то тяжесть в голове и небольшой жар; но это не мешает мне заниматься усердно, следить за литературой — поддерживать интересные знакомства в литературном мире.
Я очень виноват перед Варварой Ивановной, так долго не отвечая ей, но постараюсь загладить свой грех скорым ответом. Как здоровье Клеопатры Александровны? Я ей тоже пишу. К 1 марта мне надо представить письменную работу в Академии, а я к ней еще не приступал. Желаю вам скорого и полного выздоровления и всего хорошего. У Варвары Ивановны целую ее добрые ручки.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Ал. Жиркевич.
№ 15
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
27 февраля 88 г.
Лазарет Л. Гв. Конного полка.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Вы правы и не правы, распекая меня за мое длинное послание: правы — потому, что мне действительно вредно писать, не правы — потому, что и так моя жизнь не красна и было бы жаль лишать себя последнего удовольствия — переписки с друзьями (к которым, надеюсь, вы разрешите мне причислить себя и Вар- вару Ивановну?!). Я так много выстрадал за эту болезнь, что едва ли суждено мне когда-либо страдать более. Вот уже четыре недели, как я болен: более двух недель лежу здесь, неделю лежал и в квартире, да неделю ходил в тифе на лекции, благо не терял сознания. Как благодарен я Богу, что даже и в болезни я не терял способность думать, чувствовать, надеяться, хотя порой и лежал в полузабытьи. Эта болезнь окончательно убедила меня в том, что характера, силы воли у меня довольно, а терпением — могу даже похвастаться. (Хоть хвастаться и не красиво!) Третьего дня первый раз разрешено мне было ½ часа посидеть в кресле для больных, но это так утомило меня, что я поспешил опять лечь. Сижу на самой строгой диете, так как доктора объявили, что если во время выздоровления съесть хоть кусок лишнего, то будет возвратный тиф и я, вероятно, отправлюсь в места, где «нет ни болезни, ни воздыхания…». А я хочу жить, и эта жажда жизни никогда не была так сильна, как теперь, когда опасность прошла и я чувствую брожение восстанавливающихся сил. Надо жить, чтобы что-нибудь сделать, чтобы принести пользу, чтобы не краснеть за себя! Простите за это письмо: оно вновь, пожалуй, нагонит на вас хандру, а я не хотел бы, чтобы облачко, проносящееся над нивой моей жизни, бросало свою тень на вашу счастливую ясную весну! Храни вас Бог от философий, хандры и болезней: оставим все это для более солидных годов, а теперь будем брать у жизни то, что она дает! Надеюсь получить от вас еще письмецо! Когда разрешено мне будет встать, заниматься и выходить, — не знаю, но я решил держать экзамены весной, а они начинаются в конце марта, о чем и объявил докторам, хотя они — качают в ответ головой. Из ваших писем я так мало могу узнать о вашей жизни! А ведь вы живете же умственной, светской жизнью? Отчего же не доверяете мне и пишете так мало и так сдержанно-скупо? Этим вопросом и кончаю мое послание! Видите ли, какая у меня твердая рука!.. Будьте здоровы. Кланяйтесь Варваре Ивановне и Клеопатре Александровне.
Преданный и уважающий вас
Ал. Жиркевич.
№ 16
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
18 марта 1888 г.
Лазарет Л. Гв. Конного полка.
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
В последнем письме вашем вы пишете мне, что я вполне могу рассчитывать на вашу дружбу… Очень рад случаю, дающему мне возможность сказать вам прямо и честно, что вашей дружбы для меня мало: я уже более четырех лет люблю вас и теперь первый раз решаюсь это вам высказать. Еще задолго до поступления в Академию вы интересовали меня, но в чувствах своих я еще не мог разобраться, и только за год до Академии я понял, что люблю вас и никогда разлюбить не буду в состоянии. Скажу вам теперь, что и в Академию, главным образом, я поехал ради вас, чтобы получить более определенное положение и обеспечить себя материальными средствами; все, что перенес я здесь в эти три года каторжного труда и лишений, я переносил безропотно и с радостью, говоря себе, что этот подвиг я делаю для вас, которую тайно и безнадежно люблю! Согласитесь сами, что я держал эти четыре года себя как порядочный человек и ни одним словом не выдал вам себя, скрывая даже от близких мне лиц свои чувства?! Между нами завязалась переписка, с моей стороны — полная вопросов и симпатий к вам. С вашей — довольно холодная и сдержанная. Но любящим сердцем я и там ловил признаки симпатий ко мне и во имя их решаюсь теперь высказаться перед вами, не зная даже, что вы ответите мне, и не имея даже права и основания на что-нибудь надеяться. Итак, согласны ли вы разделить мою судьбу с моею жизнью, вверить свое счастье моей охране и попечениям?! Помните, что ведь дело идет здесь о всей вашей жизни, а потому не торопитесь с ответом, вдумайтесь в мои слова, загляните в будущее, а главное, загляните в свою чистую, святую душу и спросите себя, можете ли твердо и уверенно сказать мне «да!» и повторить это «да» перед алтарем Всевидящего Бога?! Я очень сожалею, что вынужден делать свое предложение теперь, когда я болен и вы невольно жалеете меня; а это чувство жалости может помешать вам хладнокровно обсудить это письмо. Но ввиду окончания через два месяца Академии я решил не молчать более, а если суждено, то громко всему миру заявить о своих чувствах. (Ради Бога, забудьте про мою болезнь, которая скоро оставит меня, и постарайтесь быть беспристрастной и даже строгой к моей личности. На этом бы следовало окончить письмо; но совесть моя этого не позволяет.) Я старше вас годами, опытнее вас в жизни и считаю нужным сказать о себе несколько слов. Не сделайте неосторожного шага, если захотите вверить свое счастье именно мне! Не забывайте, что я — человек без средств и еще года два-три буду жить одним скудным жалованьем… Конечно, я добьюсь этих средств, но кто поручится за будущее? Пойду далее: у меня здесь много знатной и богатой родни, но от нее я всегда держался далеко и скорее на правах хорошего знакомого, чем равного, так как никогда ни в чем родне не обязывался и ничего у нее не просил. У меня, как говорят, есть литературный талант, и я завел здесь литературные связи, но литературное поприще не для всякого благоприятно и выгодно, а я слишком горд, чтобы ходить на поклоны к литературным знаменитостям. Без этого литературная карьера не обеспечена. Следовательно, и здесь я не могу ручаться за будущее. Сказанного, считаю, довольно! Я хотел напомнить вам, что, решаясь дать мне тот или иной ответ, вы постарайтесь видеть во мне самого заурядного человека, хотя и не без хороших качеств, но я ничем не выделяющаяся личность из массы других заурядных людей. Если такому человеку вы можете искренно и твердо ответить «да», то это будет залогом, что едва ли вы ошибетесь в своих чувствах и выборе. Зная ваш характер и силу воли, я уверен, что вы сами, не прибегая к советам, разрешите эту задачу, которую предлагает вам, в лице моем, сама жизнь! Не бойтесь отказать мне: я — мужчина, обладаю твердым характером и много уже перенес в жизни, а потому и этот ответ перенес бы безропотно и твердо. Чувствую, как много и, вместе с тем, как мало сказал я в этом письме из того, что наполняет в данную минуту мою душу! Ожидая от вас того или другого ответа, я, как честный человек, сказал вам о себе всю правду и могу обещать только одно: если мечты и сбудутся, свято и честно охранять вас от всех житейских бурь, быть вам и другом, и покровителем, и постараться, чтобы вы во мне как в человеке никогда не ошиблись. Остальное — все в руках Божьих и грешно было бы смело заглядывать в будущее и придавать большое значение своей скромной личности! Долгом своим считаю уведомить вас, что пишу о сделанном предложении и вашему брату, и П. И. Лего. Призываю Божие благословение на вас, чтобы Он поддержал вас в эту минуту и не дал бы вам сделать опрометчивого шага в жизни.
Уважающий вас, преданный
Ал. Жиркевич.
№ 17
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
23 марта 88 г.
С.-Петербург.
Дорогая Екатерина Константиновна!
Сегодняшний день делается, благодаря вашему письму, счастливейшим днем моей жизни. Правда, письмо Петра Ивановича, полученное мной одновременно с вашим, дорогим и незабвенным, письмом, немного затуманило тот светлый горизонт, который сразу передо мною открылся. Но теперь, когда я услышал от вас заветное «люблю», целый мир не страшен мне, с целым миром я готов бороться, чтобы только вы были счастливы, чтобы дождаться той минуты, когда между нами никого кроме Бога не будет. Письмо Петра Ивановича звучит даже враждебно, и это, конечно, устраняет всякие мои письменные с ним объяснения. Грустно, тяжело мне, желающему любить всех тех, кого вы любите, встречать с первого же шага эту непонятную враждебность!! Но даю вам слово, что всегда буду уважать Петра Ивановича и помнить, что и он вас любит, и он желает вам счастья, но только по-своему. Кто из нас прав — решит время. После вашего письма у меня сразу выросли какие-то мощные крылья, прибавилось сил и бодрости, так что даже окружающие меня в Лазарете офицеры заметили во мне перемену: я объявил им о своем счастье, конечно, не назвав вашу фамилию. Вообще, до приезда моего в Вильну, с вашего разрешения, я хочу объявить об этом событии в моей жизни только самым близким мне лицам, т.е. отцу, матери, брату и сестре. Но не поручусь, что не разболтаю это и другим: у счастья язык очень болтлив, да и зачем молчать?! Я и без того с лишком 4 года молчал, таился, даже лгал, как будто, любя вас честно и глубоко, совершал преступление! В июне, когда, даст Бог, окончу Академию и приеду в Вильну, мы обо всем переговорим, все окончательно выясним и, быть может, рассеем и те немногие тучки, которые собрались над нами!
Здоровье мое поправляется, и я уже выезжаю в теплые дни гулять, а теперь я уверен, что пойду быстрыми шагами к выздоровлению. Доктора советуют отложить экзамен хоть до осени, но я и не могу, и не хочу: это значило бы заставить меня еще мучиться, еще ждать, еще вас не видеть!!
Вы упоминаете о холодности ваших писем?.. Прежде она волновала меня, теперь же я сумею найти там и теплые строчки, поверьте.
Получил ли хороший, благородный Андрей Константинович мое письмо? Как хочу я сойтись с ним и приобрести его любовь и доверие! Кончаю письмо, по обыкновению не написав всего, что хотел. Благодарю же еще раз за уверенность во мне, за ту твердость, с которой идете ко мне навстречу! Нет, я не ошибся в вас, я вас не идеализирую, я знал, с кем соединяю свою судьбу с этого знаменательного дня!
Вся жизнь моя теперь будет направлена на то, чтобы вы никогда не раскаялись в своем шаге! Будьте счастливы.
Уважающий и любящий вас
Ал. Жиркевич.
Дорогой нашей Варваре Ивановне свой привет, так же как и другу моему Клеопатре Александровне. Пишите, если можно, хоть раз в неделю и хоть парочку слов. Боже, как я счастлив и как я даже поглупел от счастья, от новизны положения!!
№ 18
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу
26 марта 1888 г.
Дорогой мой Александр Владимирович!
Получив письмо ваше с уведомлением, что вы посвятили вашу мать и прочих членов вашей семьи в нашу тайну, я решила написать вашей маме от себя по этому поводу; сегодня же узнаю от Клеопатры Александровны, что вы собирались просить вашу маму написать мне; но я сгорела бы от стыда, если бы она, а не я, сделала первый шаг, чтобы завязать добрые отношения. Итак, напишу ей первая — и посылаю вам свое письмо для прочтения, припишите адрес и отошлите его по назначению. Жаль мне бедной вашей сестренки: вот кому будет тоже немного грустно первое время после вашего сообщения о нашем взаимном соглашении. Вы мне говорили когда-то, что она мечтает о том, как она будет у вас хозяйкою по окончании института. Да оно и понятно: я тоже ревновала бы немного Андрюшу, если бы он женился прежде, чем я бы вышла замуж. Надеюсь, впрочем, что мне не придется столкнуться на первых же шагах с таким холодным приемом в вашей семье, каким встретил вас Петр Иванович. Мне было бы еще тяжелее, чем вам, потому что не вы, собственно, входите в мою семью, а я в вашу.
Бедный вы мой, я ведь знаю, какое письмо написал вам Дядя! Я читала его, но, конечно, не могла ничего сделать, чтобы оно было изменено, — добилась лишь того, чтобы оно не было послано прежде моего ответа на ваше предложение. Петр Иванович сказал Андрюше, что он решил более не говорить со мной по этому поводу, а я поняла это как предупреждение, что- бы не начинать этого разговора. Но все же мне надо будет задать этот вопрос не раз еще: его не обойдешь. Ужасно горько было бы мне, если бы Дядя отказался быть моим посаженым отцом, это было бы жестоко с его стороны! Он мне сказал, что во всяком случае мои с ним отношения не изменяются и что я в его расположении сомневаться не могу; что ежели бы у него была дочь, он не любил бы ее более меня. Не может быть, чтоб после брака он отказал моей просьбе!
Вы спрашиваете, получил ли Андрюша ваше письмо? До отъезда из Риги — нет, но, вернувшись туда (он уехал вчера), вероятно, нашел его у себя. Очень буду рада, если вы благополучно кончите Академию до лета, но боюсь, чтобы брак не повлиял дурно на ваше здоровье, и опасаюсь, что после вашей болезни вы не в состоянии выдержать экзамены так хорошо, как бы следовало. Помоги вам Бог во всем! Затем у меня есть еще одна просьба к вам, исполнением которой вы бы меня очень порадовали. Что бы вам теперь приобщиться Святых Таин. Я верю, что после этого физические и душевные силы ваши окрепнут. Когда мы говели на первой неделе, я не раз говорила себе, что мне радостно было бы знать, что я приобщалась в один день, может быть, в одну минуту с вами; но тогда не имела права просить вас сделать что-нибудь для меня; теперь же прошу вас, не откажите мне! Вы были больны; вам и без говенья, без стояния в церкви можно приобщиться. Хотела бы тоже просить вас принять от меня образок, который ношу уже десятый год: я его очень люблю, но для вас мне не жаль с ним расстаться. Ежели вы обещаете мне носить его, то я пришлю его, но, пожалуйста, не вздумайте меня теперь отговаривать. Ведь у меня есть уже один ваш подарок — «Последние произведения графа Толстого». Мне ужасно совестно было хранить эту книгу у себя, но теперь это неловкое ощущение устранилось. Напишите, когда ваши экзамены начнутся? Вы не сказали мне ничего о вашем сочинении. Буду писать вам как можно чаще.
Любящая вас
Е. Снитко.
P. S. Я сегодня говорила Тете, что мне все кажется, что никогда между женихом и невестой не существовало таких особенно хороших отношений, как между нами, хотя ту же вспоминаются мне слова княгини-матери к Кити в «Анне Карениной»: «А ты думаешь, что вы с Костей выдумали что-то новое?»
№ 19
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
8 апреля 1888 г.
Дорогая моя Екатерина Константиновна!
Я только что отправил к вам мое последнее письмо, как получил и ваше заказное письмо и посылку. Увидя ваш почерк на конверте, я успокоился о вашем здоровье, а то Бог знает, что уже бродило в моей голове. Спасибо и за заветный образок и за прекрасную карточку: образок я уже ношу, благословясь, а пор- трет лежит возле моей кровати, так как рамки для него я еще не успел купить. И вы, и Тетя вышли на карточке очень хорошо, особенно вы, так что, обвиняя фотографа в несходстве, вы немного против него согрешили… Не бойтесь, ради Бога, о моем здоровье: опасности для него больше нет, а по вечерам я совсем не занимаюсь, чем и сохраняю свое зрение. Но память действительно изменяет мне, хотя все доктора говорят, что это лишь временно, а потом я опять стану как все смертные. Заниматься мне, конечно, трудно; да что же давалось мне в жизни без труда, без борьбы? К этому я привык и умею всегда усладить труд надеждой, а теперь эта райская птичка часто своими песнями услаждает тоску моей лазаретной тюремной жизни.
Вы задали мне несколько вопросов: спешу на них хоть вкратце ответить. С Петром Ивановичем я еще сам не знаю, как сойдусь и познакомлюсь ближе. Во всяком случае, даю вам слово, что ради вашего спокойствия и счастья принесу все жертвы, сделаю все, чтобы он узнал меня ближе, и если не достигну его любви, то, быть может, заслужу уважения. Моя глупая конфузливая натура принесла уже мне много страданий, и мне бывает тяжело, когда встречаюсь с человеком, меня не любящим. Но и тут я решил сделать все уступки, все, что вы мне посоветуете, как знающий ближе Петра Ивановича, чтобы размолвка наша с ним не приняла серьезных размеров. Избегать же его, сердиться на него я не буду, считая такую борьбу в данном случае нечестной и мне не свойственной. Вот все, что пока могу сказать по этому вопросу: дальнейшее будет продиктовано временем и нашим с вами личным свиданием.
Едва ли мне придется командовать ротою, если окончу Академию. Спасибо вам за готовность делить со мной и радости, и горе: я в вас давно уже заметил задатки человека, с которым могу и говорить, и поступать откровенно и без боязни испугать, заставить колебаться. Я твердо хочу жить для вас, для вашего благополучия и постараюсь избавить вас от нужды и от той заурядной обстановки, которая окружает армейских офицеров. Ну а если судьба станет и тут делать сюрпризы, что же, вы, я уверен, настолько мужественны и любите меня, что взглянете ей смело в глаза и не упрекнете меня в недостатке к вам жалости.
Весной приеду в Вильну и хоть первые годы хотел бы жить в Вильне, и в этом наши желания сходятся!
Могли ли вы сомневаться, что я ни одной минуты не воображал нашего семейного очага без Варвары Ивановны, которая не погрелась бы у него на старости жизни и в свою очередь не пригрела бы нас своим горячим, любящим сердцем?! Рисуя картины нашей семейной жизни, я всюду вижу и дорогую Тетю, которую люблю как сын и друг. Итак, этот вопрос мы с вами решили окончательно. О подробностях нашей свадьбы поговорим лично, но венчаться будем там, где вы желаете. Кстати, генерал Максимов, который давно уже предназначен в посаженые отцы с моей стороны, узнав через моего брата о моей женитьбе, просит меня спросить вас, разрешите ли вы сделать ему теперь визит? Уведомьте меня на сей предмет откровенно, и если находите это неприятным или неудачным для себя, то я вежливо отклоню желание Максимова.
Дописался до конца, и благоразумие приказывает положить перо. Спасибо же за присланные дорогие моему сердцу подарки!
Храни вас Бог.
Любящий вас А. Ж.
Клеопатру Александровну по обыкновению я забыл поздравить! Душевно об этом сожалею. Буду писать и вам, и ей, и Тете после 12-го. Тогда же напишу и вам громадное письмо. В минуты отдыха думаю о вас. Все офицеры лазарета удивляются перемене, которая во мне произошла.
Помолитесь за меня 12 числа. Прошу о том же Тетю.
№ 20
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу
10 апреля 1888 г.
Дорогой мой Александр Владимирович!
Какой счастливый день был для меня вчерашний! Как часто со мной бывает, когда что-нибудь особенно хорошее должно днем случиться, мне с самого утра было так светло и радостно на душе. Вернувшись домой с английского урока, я нашла письмо от вашей дорогой Мамы — такое доброе, теплое, хорошее письмо, что меня так и потянуло к ней, и я просто жажду узнать ее! Затем, после обеда пришло ваше письмо от 8 апреля. Радостно мне и вместе с тем совестно, что я как бы вызываю вас на письма отвечать перед самым экзаменом. Когда вы получите это письмо, этот страшный день будет уже прожит и, Бог даст, благополучно прожит. Не хочу более останавливаться на вопросе об экзамене, перейду лучше к другим.
Ваша добрая Мама просит меня прислать мою карточку: не знаю, заказать ли такую, как я вам теперь послала, или сниматься еще раз в маленьком формате? Больших карточек мы сделали только шесть. Ваша Мама высказывает также желание вступить со мной в постоянную переписку, что для меня, конечно, будет большой радостью. Я навсегда сохраню ее письма и, когда вы приедете, покажу вам это дорогое незабвенное письмо, которое я вчера от нее получила. Я читаю его и перечитываю, и каждый раз оно меня приводит в восторг. У нас завяжется переписка, и вот будем по косточкам разбирать вас, мой хороший, и бранить наперерыв.
Очень буду рада познакомиться с вашим братом; боюсь только, что для него будет немного трудно пересилить себя и идти к нам: он, кажется, такой нелюдим. Я очень хочу его узнать, как и всю семью вашу, и каждый неизвестный мне офицер Оренбургского полка представляется мне вашим братом, и я стараюсь отыскать в нем какое-нибудь сходство с вами, но до сих пор напрасно. Что же касается генерала Максимова, при- знаюсь вам, мне бы приятнее было, если бы он был у нас с визитом при вас, если бы вы его к нам привели; но так как он в данном случае поступает очень любезно и деликатно и, вообще, считает себя вашим другом, я думаю, неловко будет отклонить делаемую им для вас любезность, тем более, что до осени откладывать этот визит будет слишком долго, а весной мы, может быть, увидимся лишь в деревне. Итак, мы будем ждать Максимова. Он, вероятно, будет у нас один: напишите, должна ли я в ответ на эту любезность быть с Тетей к Madame Максимовой? Благодарю вас от всего сердца за вашу любовь к Тете и за то, что вы не разлучаете меня с ней! Вы меня так обрадовали и успокоили решением этого вопроса! О моих взглядах на отношения, которые должны установиться между вами и П. И., напишу в следующий раз.
Ваша всем сердцем Е. С.
Я не совсем рада, что вы оставляете уже лазарет, кто за вами дома присмотрит? После тифов, говорят, нужно соблюдать осторожность в течение целого года.
Как здоровье вашей сестры?
№ 21
А. В. Жиркевич — Е. К. Снитко
13 апреля 1888 г.
Петербург.
Дорогая моя Екатерина Константиновна!
Пишу вам еще совсем разбитым и нравственно, и физически выдержанным вчера экзаменом. Он прошел удачно, хотя и не блестящим образом, как я привык сдавать обыкновенно экзамены по главным предметам; но грешно было бы требовать от Господа чудес, а блестящий ответ при моем теперешнем состоянии был бы чудом! Я рад, что 1/4 часть экзаменов свалилась с плеч, и хотя осталось три экзамена и письменная работа, да я надеюсь все преодолеть и, как средневековый рыцарь, принести к вашим ногам академический значок и, быть может, обе- спеченную будущность. Мне поставили 10 баллов, более чего и не требуется по 1-му разряду. Признаюсь вам, что занятия вновь разбили мои силы, и одно время я лелеял мысль отложить хоть три экзамена до осени, бросить все и приехать к вам — отдыхать и лечиться. Обо мне было сделано представление, где при прекрасной аттестации Академия просила не лишать меня чина, если буду держать экзамены осенью (что бывает по одному из драконовских законов Академии), но высшее начальство решило, что мне полезно рисковать здоровьем, то есть, иными словами, отказало в такой серьезной просьбе. Бог с ними и с этой канцелярщиной, вечно преграждающей с начальническим сердцем доступ вопросов жизни и правды! Не пугайтесь этих строк и примите их как знак моего полного к вам доверия: я и матери не писал бы так откровенно о своем здоровье, как пишу вам, зная, что с вами нечего секретничать, — вы человек с характером и силой воли!
Боюсь за свои силы, но надеюсь остановиться вовремя, когда почувствую, что это требует благоразумие. Тогда отложу остальные экзамены на осень и откажусь от чина. Конечно, последнее, то есть чин, для меня важен; но, отложив экзамены на осень, я не лишусь 1-го разряда. Вот какой сумбур и неопределенность в моей бедной головушке!
Я тревожился тем, что вы уже долго не получаете от моей мамы письма. Желал бы, чтобы вы ее пока узнали хоть по письмам и оценили ее золотое сердце. Если жизнь меня не очень жалует теперь, зато подарила мне такую мать и дарит мне вас: с такими друзьями щелчки жизни не страшны!.. У вас начинается с мамой переписка? В добрый час!.. Только не верьте всему хорошему, что будет писать вам обо мне мама, и не составьте с ее слов мнение обо мне! Я всегда был маменькиным любимцем, а потому говорить обо мне беспристрастно она не может и всегда ставит меня на пьедестал, не желая верить, что я — простой смертный, которому не пристало мечтать о пьедесталах. Кроме того, довольно долго я живу вдали от матери, наши жизни, а следовательно взгляды, разошлись, и мы понимаем друг друга лишь сердцем.
Мама в восторге от вашего письма и отец мой тоже. Мама собирается вести с вами деятельную переписку, и это меня радует. Брат мой теперь в деревне и, как вернется, будет у вас. Он — прекрасный, честный и умный человек, но действительно нелюдим и нигде не бывает, так что вы на него и не претендуйте, если кроме двух-трех раз вы его не увидите в это время. С братом я очень дружен и люблю, но хотя вижу в нем большие недочеты, которые другой назвал бы оригинальностью. Замкнутый характер брата мешает нам сойтись близко, а дружба наша принадлежит к числу тех, когда взаимная помощь делается естественно, сама собой, не говорится лишних слов и все понимается во взаимных отношениях с полуслова. Брат вам должен понравиться: все, кто с ним первый раз встречался, выносят это впечатление. Из ваших писем я вижу, что вы в июне уезжаете в Карльсберг. Не можете ли вы сообщить хоть приблизительно, в каких числах это будет? Мне хотелось бы хоть на три дня приехать в Вильну перед выпуском (между экзаменами и представлением Государю будет промежуток недели в две). Получив от вас сведения, я соображу, как все это устроить. Во всяком случае, окончив Академию, я имею право взять отпуск на более продолжительное время. Тогда прямо приеду к вам, чтобы восстановить в деревне свои силы.
С вашего позволения я пишу Максимову (его зовут Иван Иванович), что вы разрешили ему сделать визит. Полагаю, что до визита самой Максимовой к вам, вам и Тете не следует делать первый шаг, то есть познакомиться с M-me Максимовой, а за вас отдам визит или я, когда приеду, или Андрюша, когда приедет. Впрочем, вы сами хорошо знаете все светские приличия, а говорить и советовать заранее — значит наверняка ошибиться. Максимов, как вы верно выразились, «считает» меня своим другом, и я к нему расположен, так как пользуюсь его неизменной симпатией уже шесть лет; характерами же и взглядами на жизнь мы с ним совершенно расходимся.
Сегодня первый день, когда я не сижу за книгами и могу думать о вас без головных болей, без тревожных взглядов на раскрытые книги. Меня все тревожит мысль: достаточно ли хорошо свидетельствуют мои письма о тех чувствах, которые питаю я к вам в моей душе?! Вот уже два месяца, как я живу в каком-то невообразимом хаосе, выбитый из обычной колеи, окруженный неразрешимыми и разрешимыми вопросами, опасениями, сомнениями, неприятностями!! Ваша любовь ко мне озаряет эту тьму, но, как узник, отвыкший от света и изнуренный борьбой и лишениями, я могу только молча благодарить существо, пролившее этот свет в мою душевную темницу, оставляя все выражения моей благодарности до полного освобождения! Итак, не истолкуйте дурно мои нескладные, нечастые и грустные письма: занятия и болезнь отнимают у меня радости жизни, и бывают минуты, когда перо валится из рук. Чтобы не утомлять себя, я почти прекратил переписку и даже не читаю газет; к вам же не могу не писать — это значило бы лишить себя той нравственной бодрости, которая не покидает меня!
Сестре моей лучше, я к ней еду сегодня в Институт и хочу подарить букетик живых цветов, которые она так любит. Пишу и Тете, и Клеопатре Александровне. Я дал себе два дня отдыха, а там опять сажусь…
Любящий вас А. Ж.
№ 22
Е. К. Снитко — А. В. Жиркевичу
24 апреля 1888 г.
Сегодня получила я письмо ваше, дорогой мой и хороший Александр Владимирович, и положительно не знаю, что мне делать. Умолять ли вас, как в последнем письме, вами еще, кажется, не полученном, отложить все до осени, или положиться на благоразумие ваше?
В последнем письме вы пишете: «На что больному даже генеральский чин?», а сегодня говорите: «Неужели остановлюсь в нескольких шагах от цели из-за возможности какой-либо беды с моим здоровьем?» Боюсь страшно, чтобы труд ваш не убил в вас здоровье навсегда! Ваш значок был бы куплен тогда слишком дорогой ценою и, кроме омерзения и отвращения, ничего бы не внушал мне. Подумайте над этим хорошенько и не заставьте меня упрекать себя всю жизнь в том, что не настояла на вашем прежнем решении. Что мы будем делать без здоровья?! Итак, взвесьте хорошенько силы ваши, но ежели их довольно, то, конечно, приятнее покончить весной экзаменные треволнения, и да будет Милость Божия с вами! Простите, дорогой мой, что письмо это не поспело к праздникам: масса писем в ответ на полученные поздравления, приготовления к Пасхе, службы Страстной недели, все это мешало написать вам, да к тому же я все ждала от вас разъяснения недоразумения насчет ваших экзаменов. Иван Владимирович (с которым мы уже познакомились и о знакомстве с которым сейчас вам расскажу) заподозрил, что вы написали мне о вашем решении отложить экзамены до осени, только чтобы не беспокоить меня, не заставлять волноваться. Это меня несколько огорчило после ваших уверений, что пишете мне вполне откровенно, откровеннее, чем маме. Вчера же, до заутрени, стала писать вам, но так устала от всей предпраздничной суеты, что улеглась спать и в церковь отправилась еще сонная. Вам нечего было просить меня молиться за вас и думать о вас при первых возгласах «Христос воскресе!» Я и так была бы мыслью с вами и с моим бедным Андрюшей! Существует поверье, что желание, которое выскажешь, когда в первый раз услышишь в церкви «Христос воскресе!», непременно сбудется. Я вообще не суеверна, но мне хочется верить в эту примету, и я молилась о благословении для нас с вами и всех тех, кого мы любим.
А теперь скажу вам про вашего брата, что он мне действительно понравился, как вы предполагали, и мне кажется, что мы уже с ним познакомились. Он был у нас на следующий день после визита Максимова и был так мил, что пришел затем к нам вечером и принес по моей просьбе три карточки вашей сестры. На одной из них она очень похожа на Леню Вирпотину. Иван Владимирович обещал, что будет заходить к нам вечером запросто, и мы, конечно, употребим все усилия, чтобы посещения эти не были для него тягостны. С отцом вашим и сестрой мне не пришлось встретиться: они приехали сюда в Страстной четверг, и Иван Владимирович, предполагая, что мы поздно вернемся из церкви, отговорил их быть у нас. Отец ваш, говорят, будет здесь в этом месяце или будущем, но сестру вашу мне так и не удастся видеть. Это мне очень, очень прискорбно: я очень желала с ней познакомиться.
Во вторник уезжаем в Гродно, где пробудем до воскресенья. Не смею ждать от вас письма на этой неделе перед экзаменом, но, если бы вам нужно было написать мне, пишите по следующему адресу: Гродно, Дом благотворительного общества, ее превосходительству Елизавете Павловне Савицкой. С передачей E. К. Снитко. Так как я ждала вас до окончания экзаменов, думая, что вы не будете держать теперь, то перестала скрывать нашу помолвку, и Тетя объявила теперь всем об этом. Думаю, что ничего против этого не имеете. Об этом знают уже и ваши знакомые Чагины. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение вашим приездом в Карльсберг: Петр Иванович и Софья Тимофеевна никогда не приезжают на более продолжительный срок, как четыре-пять дней, много если приедут на неделю. Что Петр Иванович с вами объясняться не будет — за это я готова ручаться. Мне кажется, он боится объяснений, которые могут поставить его в необходимость мотивировать чем-нибудь свое непонятное поведение, а он не простит тому, кто поставит его в глупое положение. Почему сын генерала Костогорова пользовался четырехмесячным отпуском, когда кончил Артиллерийскую Академию? Я думала, что это законом установленный срок.
Напишу вам из Гродно. Не бойтесь, чтобы кто-нибудь меня вырвал у вас: я сама не дамся. Не бойтесь также, чтобы кто-нибудь мог поселить недомолвки между нами.
Не забывайте любящую вас Е. Снитко.
На этом письме мы сделаем остановку. До венчания Екатерины Константиновны и Александра Владимировича будет еще немало писем. Да и те, которые представлены читателю, составляют лишь небольшую часть их переписки; писали часто и помногу, но и в этих письмах чувствуется атмосфера общения, интересов молодых людей, счастье первого признания…
Семейные фотографии из архива Н. Г. Жиркевич-Подлесских.