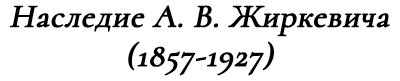«Нет, с этим шалить забудешь!..»
(Симбирский и Витебский губернатор Иван Степанович Жиркевич и его мемуары)

Опубликовано:
Из семейной хроники… // Белорусская земля в воспоминаниях и документах.
М.: Изд-во Института Мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ РАН), 2019.
Вып. 2. С. 110-133.
В начале 40-х годов XIX столетия в Полоцк на постоянное жительство переезжает недавно вышедший в отставку военный губернатор Витебска Иван Степанович Жиркевич (1789–1848). [1] Назначенный на этот пост в 1836 году в сложное время присоединения униатов к православной церкви, он оказался в самом центре религиозного противостояния и экономических проблем в крае, о чем подробно рассказал в своих мемуарах «Записки Ивана Степановича Жиркевича». Они печатались в «Русской старине» (1874–76, 78 и 90-х годах) и принесли автору посмертную известность, вызвав интерес искренностью и непритязательностью рассказа очевидца и участника многих важных событий конца XVIII — начала XIX столетий.
Несмотря на короткое пребывание И. С. Жиркевича на посту Витебского военного губернатора (1836–1838), он оставил о себе память как о человеке столь непохожем на привычное представление о губернаторе, что спустя более полувека его еще помнили в городе. Его внук А. В. Жиркевич, [2] посетив Витебск, записал в дневнике: «Посетив Витебск, я много слышал воспоминаний старожилов о моем деде. Несмотря на его вспыльчивость, о нем живет здесь добрая память. Мне было приятно слышать от губернатора (кн. В. М. Долгорукий. — Н. Ж.) доброе слово по адресу покойного моего деда. Он сказал, между прочим, что девять лет губернаторствуя в Витебске, часто руководствовался записками деда и удивлялся насколько дед был умен и тонко понимал условия и быт местного края. Витебск. 25 ноября 1892 г.». [3]
Быстрый в решениях, энергичный, хорошо понимающий проблемы края, независимый и неподкупный, жесткий до жестокости, но и справедливый вне сословных и национальных предрассудков, Иван Степанович всю свою деятельность подчинял одной идее — служению Отечеству на всех вверенных ему Императором постах. Его фанатическая честность, неустанная борьба с казнокрадством и взяточничеством, строптивость и неуживчивость, личная преданность Императору и букве закона, простота быта приводили в изумление многих, знавших его.
Наиболее яркое впечатление об авторе «Записок» остается после чтения воспоминаний Э. И. Стогова — сослуживца Жиркевича по Симбирску, возглавлявшего жандармскую службу. Э. И. Стогов в своих воспоминаниях [4] посвятил Жиркевичу почти целую главу. «Как ни бужу свою память, — вспоминал Э. Стогов, — не могу добиться от нее воспроизведения момента с подробностями, как явился Жиркевич в Симбирск, и думаю, едва ли солгу, сказав, что никто этого не знал — как тогда, как и теперь не сумею объяснить: пешком ли пришел или приехал Жиркевич? Днем или ночью? Както все вдруг узнали, что новый губернатор занимается делами. Говорили в обществе о Жиркевиче так, как будто он и не выезжал из Симбирска и как будто он давно уже губернатором. Всезнайки рассказывали: когда спросили его, когда он позволит представиться чиновникам? — он отвечал: “Зачем беспокоиться, с господами служащими познакомлюсь, занимаясь вместе делами…”
…В губернском городе все знают, кто что есть, о приезжем известно — богат, беден, скучен, весел, играет ли, танцует ли, хорошо ли говорит по-французски и пр. О Жиркевиче я не слыхал ни одного вопроса, никто не интересовался и почти не упоминалась фамилия: просто говорили — губернатор.
Я куда-то ездил; возвращаясь, немедля явился к новому губернатору. В зале два чиновника с кипами бумаг; я просил доложить, отвечали “не приказано” и указывали на отворенную дверь в кабинет. Губернатор — у стола, уложенного бумагами, на двух стульях — дела: Только я вошел, Жиркевич встал навстречу мне. Он был среднего роста (вершков восьми); правильное и, можно сказать, красивое лицо, но не только серьезное, почти суровое выражение; темно-русые волосы приглажены по-военному в форменном сюртуке, застегнутом на все пуговицы — видна привычка к военной форме… Пригласил сесть. Думаю, захочет знать о губернии, об обществе… Ничуть не бывало, хоть бы слово спросил, а от кого же узнать, как не от жандарма.
Странное впечатление сделал на меня Жиркевич. Он вежлив, но очень молчалив; все вопросы касались лично меня. Я попробовал сказать шутку — он не слыхал; я хотел заинтересовать его серьезным — он не обратил внимания. Откланявшись, я решительно не мог составить себе понятие о характере Жиркевича.
Жиркевич скоро отдал мне визит, и опять странность — пешком, тогда как в Симбирске и мещане не ходили, а ездили; я не оказался дома; на карточке просто: “Иван Степанович Жиркевич”.
Зашел к Жиркевичу вечером — читает и подписывает бумаги, около стоит правитель канцелярии Раев. Жиркевич отпустил Раева, сказав: “Я бумаги к Вам пришлю”. — Ну, думаю, теперь разговорится. Жиркевич был очень вежлив, говорил о погоде, местоположении города — сухая история! Я коснулся было общественной жизни, что дворяне любят веселиться и привыкли, чтобы участвовал с ними губернатор. Он ответил, что как обделается с делами, то и он не прочь разделить общее удовольствие. Но так и не обделался. Я рассказал какой-то анекдот, думая сорвать улыбку — рассказ прошел мимо!
Видаясь по разным случаям с Жиркевичем, я всегда заставал его за бумагами и составил себе понятие, что это — человек дела. Он всегда был как-то сдержан, очень вежлив, но малейшая несправедливость, плутовство по делам выводили его из себя: вспылив, он уже не знал границ гнева. Много ходило рассказов по городу, как он, забывшись, гнался до крыльца за советником. Мошенники для него теряли личность, но зато и боялись его чиновники… Жиркевича полюбить очень трудно, но нельзя было не почитать его, нельзя было не уважать честной его деятельности, его бескорыстия; он отдался весь, без остатка, полезному служебному труду. Узнавши его, я готов был поклониться ему… Мои сношения с ним были прекрасны, но сухи».
«Весьма часто я писал к шефу, — продолжал вспоминать Стогов, — что Жиркевич феномен между губернаторами. Писал, что Жиркевичу достанет управлять тремя губерниями, стоял за его благородную честность, неутомимость…». [5]
Страницы «Записок» сохранили для потомков бытовые подробности и приметы жизни Северо-Западного края: память о стихийных бедствиях, наводнении в Дриссе, пожаре в Полоцке; размышления автора об экономических проблемах губернии и путях выхода из кризиса. Ряд страниц посвящен деятельности полоцкого архиепископа Смарагда Крыжановского; здесь же — множество имен предводителей дворянства городов края и видных государственных служащих Витебской губернии.
Приехав в Витебск 21 сентября 1836 г. (ст. ст.), уже на следующий день Жиркевич вызывал к себе членов губернского правления, большая часть которых по привычной халатности не явилась к сроку. Жиркевич, не дожидаясь опоздавших, едет осматривать казенные заведения. По дороге отмечает «на главных улицах и площадях заметную чистоту и опрятность, но зато в боковых улицах и переулках заразительную вонь и гнилость…». [6] В тюрьме тут же сделал выговор смотрителю и прокурору, который также опоздал на встречу. Осматривая больницу, Жиркевич «выразил свое мнение <…> с приличной строгостью», < > а возразившего ему «смотрителя тут же арестовал, но по выходе из больницы возвратил ему шпагу». [7] <…>
«Богоугодные заведения и внутреннее полицейское устройство в губернском городе нашел я в весьма жалком положении. Особенно замечательна была в этом отношении полицейская прислуга; все старики в лохмотьях, с подогнутыми штанами, вечно небритые, в помятых, разодранных, разнокалиберных шапках. И на вопрос, сделанный, что это за люди и откуда они набраны, я получил ответ, что часть — из отставных солдат, а часть — из бессрочно отпускных, что порядочных людей для примера приискать нет никакой возможности; жалованье назначено весьма скудное, но и то очень часто, за не сбором в свое время городских доходов на содержание полиции, доходит неаккуратно. <…> Пожарный инструмент не однообразен, ветхий; лошади — все уже перешедшие далеко за десять лет и при малейшей тревоге едва-едва с первого порыва дотаскивающие пожарные трубы до места пожара, а очень часто при отправлении под гору за водой, не возвращаются к месту своего назначения». [8]
В тот же день, как пишет Жиркевич, слух о сделанных им взысканиях долетел за 150 верст и до Могилева…
Иван Степанович много разъезжал по губернии, быстро решая необходимые вопросы, а иногда и усмиряя возникающие волнения. Пути его маршрутов: Полоцк, Дрисса, Невель, Люцин, Режицы, крепость Динабург (ныне Даугавпилс. — Н. Ж.) и др.
Одной из задач, стоявших перед Жиркевичем, была необходимость разобраться в причинах экономического упадка в губернии и найти пути к улучшению жизни в крае. На страницах «Записок» немало места отведено осмыслению этих причин. Здесь же содержатся рекомендации последующим губернаторам о преобразованиях в Витебской губернии. Видно, что он глубоко и близко принимал проблемы края. (Жиркевич писал свои «Записки», уже будучи в отставке. — Н. Ж.).
Другой — и главной — задачей был деликатный вопрос о присоединении униатов к православной церкви; правительство хотело провести его «постепенно, осторожно, но твердо». Уже имея опыт разрешения сложных экономических и политических вопросов во время губернаторства в Симбирске, [9] Иван Степанович имел поручение от Императора разобраться и в этой сложной ситуации, которая длилась не одно десятилетие…
Уже несколько веков, после Брестской унии (1596 г.), по решению которой возникло униатство, объединившее в своем учении православные обряды и католические догматы, (при подчинении Папе Римскому), в крае шли религиозные противостояния, особенно после раздела Польши и присоединения части этих земель к России. Тогда же начался многолетний и сложный процесс присоединения униатов к православной церкви. Екатерина II, стараясь освободить униатов от влияния католицизма, покровительствовала православию. Павел I снова ввел подчинение униатов католической церкви. Создание университета в Вильне при Александре I и Виленского учебного округа, во главе которого стоял кн. Адам Чарторыйский, [10] еще более усилило влияние католицизма.
Большинство помещиков ко времени появления И. С. Жиркевича в крае исповедовало католицизм, крестьяне — униатство, православное же духовенство, сократившееся до минимума, в некоторых местах отсутствовало вовсе. Так, в Полоцке, когда на полоцкую кафедру был назначен в 1833 г. епископ Смарагд Крыжановский (1833–1837), православного пастыря видели в последний раз в 1662 г., т. е. 171 год назад…
«Не только красивый, но можно сказать прекрасный собой мужчина, — так описывал И. С. Жиркевич архиепископа полоцкого, — свежих лет, более похожий на воинственного черногорца, нежели на смиренного владыку, он меня встретил и принял радушно, но с первых слов я заметил, что природный ум его не получил ни маломальской полировки. В Витебске я составил себе идею, что он должен быть религиозный фанатик, но тут открыл, что и предписанным церковным правилам он подчинялся лишь наружно; два или три случая меня тотчас с ним ознакомили». [11]
Вскоре отношения Жиркевича и архиепископа Смарагда осложнились. По мнению Жиркевича, последний обладая силой характера, вмешивался в дела гражданских властей, оставляя за собой приоритет в решении разных вопросов. Многие страницы в «Записках» отведены взаимоотношениям с архиепископом Смарагдом, цитируются их обширные диалоги, которые здесь за неимением места привести нет возможности, можно лишь отослать к первоисточнику, т. е. к самим «Запискам».
Окончательное присоединение униатов к православию произошло в 1839 г. при Николае I. Большую помощь в этом оказал униатский священник Иосиф Семашко. [12]
 Архиепископ Смарагд Крыжановский
Архиепископ Смарагд Крыжановский
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смарагд_(Крыжановский)
Заканчивая печатать «Записки» в 1890 г., редакция журнала «Русская старина» в небольшом послесловии отмечала, что «<…> неуживчивость и строптивость Жиркевича вытекали из чистейшего источника, именно — из неподкупной, фанатической честности, из преданности и любви к Царю и Отечеству. Этими свойствами характера покойного запечатлены его “Записки”… Вообще Иван Степанович — один из ярко типичных представителей энергичных, весьма сметливых и способных, честных и горячих служак Николаевского времени <…>». [13]
Родом из дворян Смоленской губернии, в пятилетнем возрасте он был отдан на военную службу (как было принято в дворянских семьях того времени) в Сухопутный шляхетский кадетский корпус В 16 лет, выпущенный в жизнь, Иван Степанович сразу же принял участие в боях под Аустерлицем (тогда же получил свой первый боевой орден св. Анны на шпагу), а затем — и во всех заграничных походах 1805–1807, 1808, 1809 гг. [14] Около трех лет Жиркевич был адъютантом гр. Аракчеева.
Отечественную войну 1812 г. Иван Степанович прошел от самого начала и до конца, окончив ее в Париже. За участие в Бородинском сражении был награжден орденом св. Владимира 4-ой степени с бантом — одним из самых значительных в то время. После войны не долго он служил в департаменте Военного Министерства; был помощником командира Тульского оружейного завода. В 1834–36 гг. — губернатор Симбирска.
В 1836 году император посетил Симбирск и присутствовал на балу.
Из дневника внука губернатора — А. В. Жиркевича, записавшего рассказы Александры Ивановны Нахтман — приемной дочери Ивана Степановича:
«<…> Дворянство давало бал. Государь, обласкавший деда (за деятельность и благополучное успокоение лашман. [15] — Н. Ж.) и желавший оказать ему внимание, спросил Ивана Степановича, есть ли у него семья и кто из них на бале. На ответ деда Государь сказал: “Жена твоя танцует?” — “Только польский”. — “А дочь?” — “Танцует все танцы”. — “Представь ее мне”. Дедушка представил Александру Ивановну, Государь, танцуя с ней кадриль, милостиво беседовал. Так, он спросил: “Вы, вероятно, сердитесь на меня за то, что я перевел Вашего батюшку в Витебск?” — “Не смею сердиться, Государь, воля Ваша”. — “Знаю, знаю, что там неприятно служить…”». [16]
В Витебске Жиркевич вскоре нажил себе таких же недоброжелателей, как и в Симбирске. Не найдя общего языка с генерал-губернатором кн. Дьяковым, человеком, по мнению Жиркевича нерешительным и компромиссным Иван Степанович неоднократно подавал прошение об отставке, но Николай I не принимал ее. Но в 1838 году, как писал в своем дневнике А. В. Жиркевич, отставка — неожиданно для Ивана Степановича — была принята.
«Дедушка, подавая в отставку, был убежден, что Государь ее не примет. Но не любивший его Перовский (министр внутренних дел. — Н. Ж.), убедил Государя Николая I, что дедушка невозможен на службе. Отставку его приняли. <…> Дедушка был огорчен, принял все смиренно, заказал себе серый сюртучок и явился в нем с грустным лицом семье. Желая вновь служить и нуждаясь, дедушка хлопотал несколько раз о возвращении его на службу <…>, но Государь молча вычеркивал его из докладов, а ранее Государь всегда хвалил дедушку<…>. Дедушка был уже в отставке, когда Государь посетил Витебск. Зная, что недруги, состоящие в свите Государя, не позволят ему добиться аудиенции у Государя, дедушка вышел на встречу Государя на шоссе и встал отдельно от толпы, надеясь, что Государь вспомнит его и остановится. Одет он был в своем сером сюртучке. Но на поклон его, Государь взглянул ему в лицо и отвернулся. Дедушка вернулся домой убитый, взбешенный. Дурное настроение выражалось у него всегда тем, что он пил самый крепкий кофе. Он потребовал этот кофе и заперся в своей комнате. В виду холеры, дедушка написал записку, в которой завещал хоронить себя в простом, деревянном гробе, если можно — даже в халате, без всякого парада». [17]
Тогда же, еще в Витебске, он начал свои «Записки», которые продолжал писать, когда в начале 40-х годов с семьей переехал в Полоцк. Просто и незамысловато ведет в них он свое повествование об Отечественной войне 1812 года, о заграничных походах русской армии, в которых принимал участие, о выдающихся военачальниках — М. И. Кутузове, А. П. Ермолове. А. А. Аракчееве; о подробностях армейского быта и боевых действий; усадебной жизни; о губернаторстве в Симбирске и Витебске и о своей неустанной борьбе с казнокрадством и взяточничеством…
Умер Иван Степанович в 1848 году, в крайней бедности, от холеры, свирепствовавшей в городе. Через шесть недель умерла и неразлучная спутница его жизни Александра Ивановна (рожд. Лаптева). Похоронены оба были на «Красном» кладбище Полоцка. Могила не сохранилась.
Все, читавшие «Записки», отмечают трогательную и поучительную историю его женитьбы, рассказанную им самим, которой и завершается рассказ об этом незаурядном человеке.
Шел 1812 год. Отступая с войсками, («жар был нестерпимый, и мы не более как в 38 часов прошли около 75-ти верст, без малейшей встречи с неприятелем…» [18] ), молодой Жиркевич оказался в местах, близких к усадьбе, где жила тогда его невеста. Получив разрешение начальства, он поехал предупредить Лаптевых об опасной близости французов, отдельные разъезды которых уже появлялись на противоположной стороне Днепра… Депрерадович, командир Жиркевича, «сперва мне решительно отказал, говоря, что хотя по другой стороне и тянется цепь казаков, но что на это полагаться никак нельзя, что неприятель местами очень легко может перебраться на нашу сторону для розысков, и что я тогда могу даром попасться в плен. Но я стал его убедительно просить отпустить меня, и он благословил меня, подтвердив, чтобы я сам на себя пенял и не выдал бы известий о том, что отряд наш идет на Смоленск. Взявши у головы подводу, часов в 10 утра поехал я в Нолинцы (деревня Лаптевых. — Н. Ж.), куда и прибыл в самый полдень. Во двор господский я должен был въехать аллеею, так что можно было приезд мой видеть еще саженей за 100 от дома. Первый предмет, бросившийся мне в глаза, когда я въехал во двор, была огромная масса сухарей, приготовленных для армии и сушившихся на солнце, а затем в окне я увидел все семейство Лаптевых, сидевших за столом, и в конце стола, прямо против окна, мою невесту, которая, вскочив, закричала: “Ах! Иван Степанович приехал”. Тут и другие все бросились к окну, а потом и на подъезд с вопросом, что значит мой приезд из похода? Этот вопрос мне показался весьма странным: но каково было мое изумление, когда мать невесты и даже Пирамидов (муж одной из дочерей, также приехавший из армии. — Н. Ж.) объявили мне, что они вовсе не имеют понятия ни о какой опасности, что они слышали, будто армия приближалась к Витебску и Могилеву, но что около этих мест где-то было сражение, и французы уже прогнаны назад, что на днях Государь был в Смоленске, смотрел там двенадцать армейских рот и рекрутов, всех успокоил и обнадежил; и что они вовсе не собираются и не думают куда-либо выехать. Я, объяснив им их ослепление, стал убедительно просить матушку тот же час собраться и ехать, по крайней мере, в Смоленск, что составляет не более 18 верст, там она сама могла удостовериться, что им никак нельзя долее оставаться в деревне. Она мне объявила, что это вовсе не так легко сделать, как я предполагаю, что она обыкновенно все лето живет в деревне, следовательно, на лето у нее в Смоленске вовсе нет запасу; теперь же пора рабочая, мужики все в поле и от работ отрывать их грешно. В дальний путь с семейством ей ехать и вовсе нельзя: “На это нужны деньги, а у меня их вовсе нет” — сказала она и потом прибавила: “Да что это, Иван Степанович, вы нас пугаете, вас, верно, послали по какому-нибудь делу в Смоленск, и вы хотите, чтобы ваша невеста была ближе к вам, и потому всех нас за собой тянете? Раненько, молодой человек, вздумали надо мной шутить”. После долгих и долгих убеждений, она понемногу начала давать веры моим словам, обещала подумать и дня через два приехать в Смоленск на несколько дней. Пробывши часа два у них, отправился я к отряду своему, в деревню Ольшу. Когда я явился после к Депрерадовичу, он с любопытством стал спрашивать меня, что слышно около Днепра о французах, но я удивил его моим рассказом, и он мне серьезно сказал: “Напишите сейчас же к вашим родным, что я велел их уведомить: они не могут оставаться в деревне и отправьте к ним нарочного”. Разумеется, я поспешил исполнить приказание генерала, и будущая моя теща, с четырьмя дочерьми, из коих две беременные, с двумя малютками, с дворней, человек до пятнадцати, без денег, без гардероба, без запасов, на другой день, в пять часов утра, перебрались в Смоленск; а через полчаса после ее выезда, в деревню наехали свои мародеры и весь дом перевернули вверх дном, так что оставшаяся дворня, а частью и крестьяне, бегом прибежали в Смоленск и принесли весть о том…». [19]
Увиделся же Иван Степанович с семьей Лаптевых лишь через два года: тотчас после подписания мира Жиркевич выехал из Парижа в родные края…
«<…> Родной мой край представлял все еще только одно пожарное пепелище. В имении матушки, Малосельи, более половины крестьян перемерли. Осталось всего лишь шестнадцать душ, и Фролов, к которому от сестры перешло это имение, по крайней мере, озаботился продовольствием мужикам и обсевом их и своих полей. В Нолинцах же, деревне Лаптевых, все стояло вверх дном. Поля не засеяны, крестьяне не призрены и, что всего чувствительнее для имения — отсутствие хозяев, тем более, что в самое это время выдавалось пособие от правительства. Как известно, что все подобные распоряжения в начале как-то идут живее и удовлетворительнее для нуждающихся, а, впоследствии, по прошествии некоторого времени, участие и рвение остывают, и вот явное доказательство тому: матушка, не будучи налицо, по возвращении своем ничего не получила уже на свою долю… <…> С матерью и с Фроловым мы отправились в исходе октября 1814 года в Смоленск, куда и прибыли 3-го ноября. Здесь я узнаю, что семейство Лаптевых все возвратилось и живет в деревне. Разумеется, что я сейчас же поспешил туда. Но как меня поразил вид моей невесты! Она предшествующую зиму, во время краткого переезда из Ярославской губернии в Смоленск, отъехавши от города в деревню, на Днепре с санями провалилась под лед и спаслась каким-то чудом; но с того времени открылось у нее сильное кровохарканье, так что при малейшем нравственном потрясении кровь немедленно вырывалась горлом чашки по две; да к тому же у нее была корь, от которой выпали все волосы на голове. Тем не менее, я стал настаивать на моем искательстве <…>. Теперь надо представить себе положение нас обоих и наших семейств. У моей матери, в обрез, ровно ничего! У Лаптевых, кроме той же скромности достатка, большой долг, сделанный для прокормления крестьян и огромной дворни. На мне — один старый сюртук, без жалованья и даже без видов содержать себя! Я не знаю, что я думал тогда, но упрямство мое было так велико, что я настаивал на свадьбе! Иногда мне казалось, что я будто бы добиваюсь, чтобы мне отказали; но сердечная привязанность и внимание ко мне моей невесты не только не ослабели, но с каждым днем все более усиливались, и чем более я размышлял о бедственном ее положении — тем дороже и милее становилась она мне. Наконец, в апреле 1815 года, на Вербной неделе, когда я стал настоятельно просить Елизавету Яковлевну решить нашу участь, она, при всей ангельской кротости, вынуждена была сказать мне, что я сошел с ума и что сам не знаю, что желаю и требую; я с сердцем уехал и сватовство считал совсем расстроенным. Но в день Св. Пасхи я получил письмо от Александры Ивановны, в котором она извещала, что матушка решилась благословить нас, и что сама будет писать к моей матери. И, действительно, Елизавета Яковлевна, извещая мою мать о моем настоянии, чистосердечно объяснила свое крайнее положение, просила, если можно, убедить меня обождать, пока я себя не пристрою, но, если это покажется недействительным, то она, со своей стороны, не будет более нам препятствовать. Матушка, зная хорошо мой характер, передала мне только письмо, не говоря ни слова, и 2-го Мая 1815 года я сделался мужем Александры Ивановны. Невзирая на крутость нашей свадьбы, на бедность наших средств, ибо, чтобы заплатить священнику и причетнику за венец, я взял у Фролова 30 рублей, а за невестою три старых платья, — вот уже тридцать два года как я пользуюсь совершенным семейным счастьем и моим детям не желаю лучшей участи (Полоцк. 1847 г.)». [20]
По страницам «Записок Ивана Степановича Жиркевича» [21]
О переводе крестьян из униатства в православие. [22]
Знакомясь с этой проблемой и собирая мнение чиновников, Жиркевич тогда же записал рассказ губернского предводителя из Яноволя Шадурского о тех методах, которыми пользовались некоторые священники при обращении униатов в православие.
«<…> Витебские помещики большею частию — католики, а крестьяне и другие обыватели частью только принадлежат католической церкви, а наиболее — униатов. Я не буду утверждать, чтобы из числа католиков все вообще помещики равнодушно смотрели на то, что подвластные им крестьяне униатского исповедания присоединяются к православной церкви, но скажу утвердительно, что когда образовалось точное понятие, что правительство решительно положило это в своих расчетах к выполнению, тогда образованные и умнейшие из помещиков воздержались от малейшего в этом отношении вмешательства, а предоставили все это (действию) тех мер, какие правительство само признает нужным указывать в этом. К нашим помещикам, по сие время, никто не обратился об этом предмете своевременно; православное же духовенство вдруг обратилось в селениях с резким требованием — не только униатов заставить обращаться с духовными требованиями к православным священникам, но даже коснулось и католиков, объясняя, что многие из сих последних, по брачным союзам с униатами, вместе с ними должны присоединиться к православной церкви. Согласитесь сами, ваше пр<евосходительст>во, позволяет ли совесть чистым католикам быть строгими участниками в подобного рода понуждениях. Конечно, ежели бы нам была объявлена прямо воля самого Государя в этом смысле, — мы бы должны были и стали бы все беспрекословно повиноваться. Но, вникнув в дела здешней губернии, ваше пр<евосходительст>во, сами изволите удостовериться, что вообще этим жалобам православного духовенства об упорстве будто бы помещиков и о противодействии мерам правительства по этому важному предмету, начало всегда возникало от православных же священников. Первый приступ с их стороны всегда бывает одинаков; к архиерею, обыкновенно, явится неожиданно человек из какого-либо значительного селения, с просьбою о желании всех будто бы обывателей оного обратиться к православной церкви.<…> Епархиальное начальство таковую просьбу всегда принимает с жаром, немедленно относится к земскому начальству, извещает оное об отправлении в селение просителя особого православного священника, требует без малейшего промедления допустить православного священника в приходскую униатскую церковь и указывает полиции принять немедленно под покровительство всех обращающихся. Помещик, владетель имения, иногда вовсе даже не знает об этих распоряжениях, а православное духовное управление дополняет, что оно нисколько не имеет нужды предварять об этом помещика: церковь-де приходская, а не собственность помещика, и не одни его крестьяне приписаны приходом к церкви. Православный священник, не упуская минуты времени, приезжает в селение, очень часто прежде даже прибытия туда чиновника земской полиции, входит, обыкновенно, в дом помещика и, в выражениях, нередко далеких от приличия, объявляет ему причину своего наезда и от него требует содействия и настояния к открытию церкви. Вообще при всех подобных случаях униатский священник скрывается, с умыслом или случайно — этого решительно нельзя вдруг определить. Помещик иногда, испуганный внезапностью, и сам желал бы тот же час выполнить настояние прибывшего священника, но двор его уже наполнен крестьянами, большею частию не имеющими не только желания присоединению, но даже и понятия, что от них требуют. Конечно, при этом не может быть совершенного спокойствия, иногда встречается и сопротивление; тогда тотчас возникают жалобы: “крестьяне де бунтуют”, помещик и униатский священник не только подстрекают бунтующих, но даже научают их противодействию. Чиновник земской полиции, подъехавший к этому случаю, всегда уже положительно обвиняется в пристрастии и потворстве католикам и очень часто отрешается от должности, а иногда и предается суду. Суд же всегда оканчивается совершенным его оправданием». [23]
О подавлении беспорядков в Яновольском уезде.
С позиций современного человека методы, которыми пользовался в ряде случаев Жиркевич, кажутся деспотичными и жестокими, но каждая эпоха имеет свои законы, традиции, психологию, которые нужно учитывать. Такова история, происшедшая в Яновольском уезде.
Суть заключалась в том, что одно из имений, ранее бывшее в пожизненной аренде, после смерти арендатора по закону переходило в ведомство казенной палаты. Для этого домовладельцы должны были выбрать старшин и принести присягу. — Н. Ж.
«<…> Крестьяне, по наущению или по глупости, объявили, что старшин выбрать они готовы, но присягать не станут, ибо “они теперь вольные, а когда присягнут, опять сделаются помещичьими”, и в этом отношении упрямство между крестьянами дошло до такой степени, что ни вмешательство священника и полиции, ни прибытие на место высших чиновников казенной палаты, ни даже личное присутствие бывшего губернатора Шрейдера не могло прекратить его».
(Далее Жиркевичу сообщают, что большая толпа разъяренных крестьян ворвалась в квартиру к должностному лицу, и только прибытие расквартированного полка из Яноволя остановило готовящееся кровопролитие. Около 80 крестьян были взяты под стражу и преданы военному суду. — Н. Ж.)
«<…> Меня тут вовсе не ожидали, и только передовой жандарм предварил их, что я буду через четверть часа, вслед за ним. Я приехал часу в пятом пополудни.
На площади перед господским домом, стояли в козлах ружья двух рот солдат и расхаживали часовые; несколько в отдалении стояли две группы: одна — состоявшая из крестьянок, а другая — из крестьян. На вопрос мой, для чего они собраны, я получил ответ: “каждый день приводят два раза для убеждения, — все тщетно”.
Я прежде всего обратил мое внимание на то, что чиновники, встретившие меня у подъезда, были все не при форме, а некоторые из них только в виц-мундирах. Я приветствовал их тем, чтобы у кого нет мундира — не осмелился бы являться ко мне. Там, где идет дело о возмущении, каждый должен иметь всю форму на себе, и первый помнить и выказывать, что он служит государю. Не знакомые еще со мною, а некоторые даже и не знавшие, что я прибыл в губернию, чрезвычайно были озадачены моим прибытием, и смятение их перешло некоторым образом и на крестьян. Пробыв несколько минут в покоях, я вышел к выстроенным уже ротам и, приняв приличную поступь, пошел к толпе крестьян, но, проходя женскую толпу, спросил: “А для чего сюда привели баб-то?”
Одна из них, выйдя вперед, обратилась ко мне:
“Ну, милость ваша, у нас уже так ведется: куда мужья — туда и бабы”.
Признав выходку сию за дерзость, я приказал заседателю земского суда немедленно наказать розгами выскочку, и через пять минут на площади не осталось ни одной женщины. Подойдя к крестьянам, которые, числом около двухсот человек, все стояли без шапок, я обратился к ним, в приличных выражениях, мое предварение, что Государь, по случаю беспорядков в Витебской губернии происходящих, назначил меня в оную губернатором. Звание это налагает на меня обязанность быть каждому селянину отцом, но для бунтующих я прежде всего каждому являюсь грозным судиею, и они меня теперь видят в одном последнем звании. Я буду уметь расправиться с каждым в свое время, а теперь чтобы они все разошлись немедленно по домам. Едва я успел обратиться на другую сторону, один из крестьян, вскинув шапку набекрень, возгласил: “Ну, посмотрим, братцы, пойдем домой!”
Заметив говорившего, я вошел в толпу и, взявши дерзкого за ворот, вывел вперед, приказав немедленно подать плетей, и тут же велел наказывать его. Несколько ударов он перенес с твердостью, потом стал просить помилования. Приостановив наказание, я спросил его: “намерен ли он вперед в шапке стоять перед начальником?” Он не отвечал, и я приказал возобновить наказание; три раза делал я ему один и тот же вопрос и он все упрямился, но, видя, что и я тоже упрям в моем наказании, наконец, дал обещание не только перед начальником, но даже при сотском и при десятском всегда ходить без шапки, и я повторил приказание, чтобы крестьяне шли по домам к себе.
Эти два внезапно сделанные примера так сильно подействовали, что когда через полчаса после этого приехавший из Люцина земский исправник Михаловский явился ко мне, то объявил мне, что он верстах в двух встретил крестьян и они в один голос ему кричали: “Нет, батюшка! Сюда приехал не такой, как прежние. Поезжайте-ка туда, и вам достанется; нет, с этим шалить забудешь!” И Михаловский прибавил: “Я уверяю вас, ваше пр<евосходительст>во, что крестьяне это говорили нешуточно, и смело заверяю вас, что теперь уже неповиновения не будет!”
Я пошел посетить арестантов; они, в числе семидесяти восьми, содержались в двух огромных сараях, и около каждого из них поставлено было по шести часовых с заряженными ружьями. Вызвав их всех наружу, я выкликнул пятерых, <…> как замеченных лично Домбровским, врывавшихся в его квартиру. Этих приказал немедленно заковать и обрить им половину волос на голове и на бороде, а остальных немедленно отпустить домой. За этим, я приказал исправнику, чтобы на другой день к утру, в семь часов, из ближайших деревень приведены были ко мне одни только домохозяева; но пришлось объявить от меня строжайшее приказание, ежели я увижу хотя издали кого нетребованного, мужика или бабу, я велю непременно и больно наказать розгами; вместе с сим объявил я, чтобы к этому сроку прибыли в Яноволь священники, для приведения к присяге, православного и католического исповедания.
<…> По утру, при моем выходе, я нашел в зале уже чиновников всех, в мундирах, двух священников, из которых я к православному подошел, по обычаю, к благословению; но сколько поразило меня: от него, как от винной бочки, несло уже вином, так что я решительно отскочил назад. Само по себе разумеется, что я разразился в моих о сем предмете замечаниях, и от католического священника тоже был слышен запах вина, но в малом размере. <…>
Когда исправник донес мне, что домохозяев приведено тридцать семь человек, я велел им составить именной список и поставить их в две шеренги, а около них составить цепь из шести рядовых из караульных; сверх того приказал арестантов, накануне закованных, без шапок, провести мимо теперь собранных крестьян и объявить при этом, что их ведут к суду и что участь их сегодня же будет решена окончательно. Затем я сам вышел из покоев, окруженный большою свитою; обратясь к крестьянам, я сказал им:
“Вас долго и много увещевали, и все без успеха; я говорить много не люблю: слушайте мое приказание. При выборе старшин для себя вы должны все присягнуть; этого требует от вас Бог и Государь. Я буду спрашивать по одиночке каждого из вас: намерен ли он присягнуть или нет? Другого ответа не надо: «да» или «нет». Кто скажет «да», тот сейчас же присягнет; кто скажет «нет» — пальцем не трону: тот будет судим по закону; вы видели преступников, — вот всем пример”».
Окончив речь, я приказал исправнику по списку вызывать крестьян, по одиночке, вперед; первый вышедший, на вопрос мой: будет ли он присягать? Отвечал: “Отчего же не присягнуть? Я не прочь, когда и другие станут тоже присягать”.
“Я от тебя не требую рассказов, отвечай мне словом: «да» или «нет»”, заметил я ему.
Он же опять повторил мне то же, т. е. что он тогда присягнет, когда будут присягать другие. Я приказал подать розги и велел наказывать его просто за упрямство. Ударов с пятьдесят выдержав, он стал просить о пощаде; приостановя наказание, я повторил, что требую коротких ответов “да” или “нет” <…>. Крестьянин опять стал ссылаться на согласие других, и я приказал снова сечь его за упрямство. Четыре раза начинали наказывать и, наконец, уже он просто отвечал: “да”. Тут один из стоявших во второй шеренге закричал:
“Плетьми и розгами каждого можно заставить делать, что хочешь!”
Я вызвал выскочку вперед и тут же приказал сечь его. Ему не дали и десяти ударов, как он стал просить прощения и кричал: “Я буду присягать без отговорок”, <…> других сопротивников не нашлось. Принесли налой, крест, Евангелие и священник приблизился, чтобы читать форму присяги: я просил его, чтобы он прежде объяснил крестьянам всю важность того священнодействия, к которому они теперь приступают. Священник едва еще опомнившийся от пьянства, смешался, оробел, и я принял на себя то, что поручал ему. Когда же присяга была прочитана, то прежде, нежели допустить присягавших до креста и св. Евангелия, я приказал самому священнику подать пример троекратного поклонения, а за ним последовал я сам и потом каждого крестьянина заставлял делать то же: решительно могу удостоверить, что формальность, которая может показаться мелочным действием, сильно подействовала на присягавших; я видел, как каждый из них с трепетом и заметным волнением выполнял приказание и, приложившись к кресту и Евангелию, опять успокаивался. Точно тот же порядок и постепенность, т. е. пример священника и лично мой, я удержал при присяге католиков, которых было около десяти человек. Когда присяга кончилась и я подошел опять к крестьянам благодарить их и поздравить, они мне в один голос отвечали:
“Ну, отец наш, мы, глупые, до того времени не знали сами, что делать, а теперь как будто с души что-то спало: слава Богу, ведь мы все присягнули!”
На другой день я приказал привести остальных домохозяев всей волости, слишком двести сорок человек; я не встретил ни одного отреченного: все присягнули без прения; я приказал поспешить окончанием суда и, при строгости приговора, объявленного преступникам, написал частное письмо к Дьякову, прося его как можно смягчить наказание при конфирмации <…>.
Тотчас после этого я приказал батальону выстроиться вне селения, а домохозяев собрать перед моею квартирою на площади; выйдя к ним, я объявил, что теперь они сами, без всякого участия чиновников, должны выбрать четырех человек старшин, из которых я тут же утвержу двоих в этом звании. Выбор не продолжался и четверти часа; кандидаты мне представлены на лицо. Пригласив асессора казенной палаты, ибо это было его ведомство, я приказал ему избрать двух; через две минуты был введен батальон на площадь, избранные старшины под знаменем присягнули на верность службы. Священник отслужил благодарственный молебен, с коленопреклонением, и окропил всех святою водою, и все дело неповиновения кончилось так, как я предварял Дьякову. <…> Во все время, пока я был губернатором, и в делах остались свидетельства, все совершенно было успокоено и продолжалось, пока я не выбыл в отставку; а потом, к несчастью, более сорока жертв положили живот по своей глупости там, где теперь все так просто и благополучно кончилось». [24]
 Витебск. Часовня в память 50-летия воссоединения униатов с православными.
Витебск. Часовня в память 50-летия воссоединения униатов с православными.
Кон. XIX — нач. XX века. Открытка
Источник: http://evitebsk.com/wiki/Часовня
 Медаль «В память воссоединения униатов с Православной Церковью» (1839 год)
Медаль «В память воссоединения униатов с Православной Церковью» (1839 год)
Источник: http://evitebsk.com/wiki/Медаль 1839
О наводнении в Дриссе и Динабурге.
«<…>В 1837 году, во вторник на Святой неделе, я получил донесение с эстафетою от дриссенского городничего, что река Двина во время весеннего разлития своего внезапно затопила половину города, так что жители затопленных домов лишились скота, живности и всех сделанных ими запасов, и что нужно принять скорые и решительные меры для пропитания несчастных, иначе многие должны будут умереть с голода.
Полагая, что весенний разлив бывает каждогодно, я обратился к распросам о прежних случаях, и получил ответ, что в Дриссе подобного никогда не встречалось, ибо в настоящий раз и в Витебске Двина поднялась гораздо выше обыкновенного, но что ежели несчастие постигло Дриссу, то должно гораздо большего ожидать в Динабурге, где каждогодно, без исключения, часть форштадта бывает под водою. Узнав, что в этот день выезжает в Дриссенский уезд, в имение свое, предводитель Шадурский, я решился сам выждать донесения из Динабурга, а его просил, заехав в Дриссу, на мой счет раздать некоторую сумму наиболее пострадавшим и нуждающимся.
Донесение из Динабурга не замедлило, и на другой день я был извещен тамошним городничим, что на этот счет несчастие в городе усугубилось не столько от необыкновенного возвышения воды, как от неожиданности случая, ибо в истекшем году, через форштадт по берегу реки настлано полотно для шоссе, которое собою образовало возвышенную дамбу и должно быть совершенно предохранять форштадт от наводнения. Но как это полотно было еще не вполне окончено, а насыпи щебнем на оном вовсе не было, то Двина около форштадта, самою дамбою сузив русло свое, накопила огромную массу льда в этом пункте. Потом с силою прорвало в нескольких местах проведенное шоссе и вдруг, когда жители почитали себя в первый год совершенно избавленными от наводнения, водою залило весь форштадт, а напором льда не только повредило, но даже разрушило несколько домов, а один снесло с места и передвинуло более нежели на сто саженей во внутрь города. При этом случае у многих обывателей пропало все имущество, а главная потеря заключается в унесении леса, приготовляемого для разных построек, и дров для топлива.
Подумав несколько и сообразив, что, поехав на место с пустыми руками, я принесу не много пользы, ибо только увижу то, о чем имею (донесение) у себя на бумаге, и не имея в моем распоряжении никаких денежных сумм, я пригласил к себе вице — губернатора (теперь — 1845 г. — председатель казенной палаты) Гжелинского, просил его совета и пособия, т. е. спросил, может ли он, не подвергая себя ответственности, из казначейства, на собственный мой страх, отпустить какую-либо значительную денежную сумму? Пересмотрев все ведомости, мы согласились, чтобы я дал палате предложение отпустить в прямое мое распоряжение строительный капитал, с несколькими рублями более 20 тыс. руб. Приняв эту сумму, я в тот же день поехал прежде, через Полоцк, в Дриссу.
Остановясь на ночь в Полоцке, я стал подробнее расспрашивать о слухах о постигшем Дриссу несчастии; слухи эти сообразовались с донесением. Я приказал полицеймейстеру скупить 150 четвертей круп, нанять лодку и спустить вниз по Двине до Дриссы, — издержка простиралась до 1.800 рублей, — и сам пустился рано утром далее, передовым отправя жандарма.
На городской черте, до Дриссы версты за две еще до заставы, встретил меня тамошний городничий на дрожках; я пересел сам к нему и стал расспрашивать его о подробностях. Он рассказывал мне, изображая все в самом горестном положении и утверждая, что более половины скота погибло в волнах. Из людей же утонул только один кузнец, но и то по своей неосторожности, ибо в самый разлив на доске хотел переправиться через реку Дриссу, по близости устья оной с Двиною, и унесен в Двину. Мы подъехали к заставе, и я приказал ехать туда, где более город потерпел, и сделал это очень кстати. Я сейчас заметил решительно в каждом доме и козу, и курицу, и, наконец, там, где прежде была, и корову; одним словом, ни скота, ни живности нисколько не погибло, а в домах, где были полы, подняло оные, размыло печи и выбило много стекол. Указав все это городничему, строго заметил я ему ложность его донесения и спросил: приезжал ли в Дриссу Шадурский? Он отвечал, что сам Шадурский не приезжал, а присылал управителя своего, который и раздал беднейшим 2.000 руб. ассигнациями.
Приказав немедленно составить и подать мне список, кому были выданы деньги, я приказал городничему, под личную мою ответственность, всю эту сумму собрать от тех, кто получил деньги, а взамен этого передать им муку и крупу, которые, по моему распоряжению, доставятся в город. Как я рассчитывал, так и случилось, и деньги, хотя не вполне, но соразмерно сделанной закупке, были собраны, и две тысячи возвращены Шадурскому.
Чтобы лучше объяснить разность усердия чиновников, по выборам служивших, или по назначению от казны, с похвалою здесь подтверждаю, что хотя при настоящем разе Двина затопила большую часть прибрежной дороги, по которой размыло и снесло мосты, но я, при всей поспешности моего выезда, видел уже полную заботливость об исправлении поврежденного, а главное, что коммуникация почтовая вся уже перемещена была выше, с удобностью, так что я и часа нигде не был задержан.
В Динабурге я повторил мою проделку, но тут расстройство я нашел гораздо серьезнее. Несколько домов порядочно пострадали, повреждены были значительно, так что у трех или четырех выбит был и разбит фундамент. Много размыто полов и печей, и побито стекол. Когда же я прибыл на квартиру, городничий подал мне ведомость о потерях, простиравшуюся более 120 тысяч рублей. Я вторично с ним отправился для соображения потерь по городу. И на месте указал ему неосновательность его сведений. Затем составил я особую комиссию, включив в нее моего собственного чиновника, и дал от себя инструкцию, по которой составленный счет с чем-то перешел за 16 тысяч рублей и был очень близок к истине. Более пострадавшим я тут же раздал около 2.500 руб. и отправился обратно в Витебск, откуда послал обстоятельное донесение генерал-губернатору и прямо министру; в частном письме к последнему я объяснил решимость мою на счет денежных издержек и просил его снисходительного внимания, дабы они не пали лично на меня. Недели через две министр выслал не только издержанную мною сумму, но и ту, которую я просил в пособие обоим городам, по личному моему обзору». [25]
 Запись И. С. Жиркевича в альбоме своей племянницы А. С. Михаловской:
Запись И. С. Жиркевича в альбоме своей племянницы А. С. Михаловской:
«Ну вот и я у тебя в Альбоме.
Друг твой И. Жиркевич.
17 июня. 1826.»
О пожаре в Полоцке в 1837 г.
«<…> Едва я успел вернуться в Витебск и дал от себя назначение о прибытии моем на другую половину губернии, в Сураж, Велиж, Невель и Городок, я получил эстафету из Полоцка, что там произошел пожар, истребивший более 200 домов, лучшую часть города. Это известие я получил на другой день начала пожара в 10 часов утра; в 6 вечера я уже был в Полоцке. Пламя погубило уже строения, но на пепелищах во многих местах еще вспыхивало, и в мою бытность сгорел еще один дом. Я обошел лично все пространство, обнимавшее несчастный случай; там, где счел нужным, приказал поставить особые караулы от обывателей и полиции. При таком огромном несчастии, конечно, никакая сила, никакие распоряжения не могли совершенно отвратить оного, а потому ни шуметь, ни взыскивать с кого-либо за действия мне не приходилось.
С 10 часов вечера до трех утра я занимался размышлением и распоряжениями, какими средствами можно было пособить погоревшим. Прежде всего предположил я открыть на месте и по губернии подписку на сбор денег и припасов для прокормления беднейших. Подписав от себя 400 руб. ассигнациями, утром пригласил я на пожертвование, через полицеймейстера, генерала Хвощинского, подписавшегося на 100 руб., и архиерея, давшего 50 руб. ассигнациями; к этому началу, до обеда от обывателей присоединилось еще до 1.200 руб. Предвидя это, я предположил составить особый комитет для направления и раздачи пособий. (Далее Жиркевич подробно описывает членов этого комитета: полицмейстера, начальника кадетского корпуса генерала Хвощинского, архиерея, полковника Доликова — «самого бескорыстнейшего и благороднейшей души человека» и др. — Н. Ж.)
<…>Для удовлетворения потерпевших, я поручил комитету прежде всего озаботиться, чтобы бедные все были размещены на один месяц, в виде постоя, без платы, по домам, уцелевшим от пожара. Затем, чтобы раздача пособия производилась не деньгами, но закупаемыми припасами, мукою, крупою и печеным хлебом, покупаемыми непременно у евреев, по той причине, что ни один христианин не будет пренебрегать таковыми припасами, напротив же, евреи имеют предубеждение к отвращению того, что изготовляется христианами.
Еще в Симбирске Государь за обедом изволил мне сказать:
“Смотри, Жиркевич, твоя участь будет жить в Полоцке. Мы давно уже имеем в виду перемещение туда из Витебска, но генерал-губернаторы как–то этого не хотят и отстаивают; со всем тем я считаю, что тебе придется непременно туда переехать”.
Это навело меня на мысль, что на обгорелых местах постройки должны производиться с особою осторожностью и осмотрительностью, и я без разрешения моего воспретил даже и временные постройки. Там, где прежде были подвижные лавочки, указал я устраивать их в приличнейшем размещении, но поставил на вид полицмейстера дозволение на это давать по одной лишь необходимости, стараясь, чтобы подвижных лавок было как можно менее, ибо мне хотелось непременно выбрать удобные городские лавки и обывателей заставить волею или неволею нанимать оные в прибыль городу. Немедленно написал я всем уездным предводителям, городничим, о рассылке главным помещикам по губернии, письменно прося их о деятельнейшем участии в сборе пособий и высылке оных без задержки на имя учрежденного мною комитета. Утром, собрав местное купечество, лично убедил оное на подписку и внесение суммы.
Еще с вечера посылал я полицмейстера от себя спросить о здоровье Смарагда (уже извещенного о переводе его в Могилев) и о том, не обеспокоил ли его особенно пожар, который коснулся до стен монастырского строения, и спросить, дозволит ли он мне видеть его. Смарагд дал ответ:
“Я болен, перепуган, а губернатор во всем господин, что угодно, так пусть и делает”.
Сочтя это за отказ и нежелание со мной видеться, я решился уже не заходить к нему, но поутру жандармский штаб-офицер, подполковник Певцов, придя ко мне, объявил, что Смарагд чрезвычайно расстроен и огорчен, и пеняет, что я его не посетил. Я тот же час взял шляпу и отправился к нему. Он меня принял с сильнейшим чувством благодарности, можно сказать даже покорности, просил извинения, что не может мне по болезни заплатить визита, но при отъезде через Витебск будет у меня лично, для изъявления своего искреннейшего раскаяния за разногласия со мною в действиях. <…>
Теперь же, возвратясь в Витебск и в этот же день, по случаю обыкновенного у меня по пятницам сборища общества, собрав еще более 1.000 руб. на погоревших, — я в подробном донесении Государю изобразил все, что видел сам лично и какие приняты на месте меры. Далее дополнил, что все несчастные успокоены мною окончательно на целый месяц и не будут терпеть нужды, но что дальнейшую их участь предаю его благотворной деснице». [26]