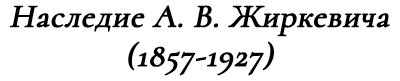Из судебной практики А. В. Жиркевича
(По страницам дневника)
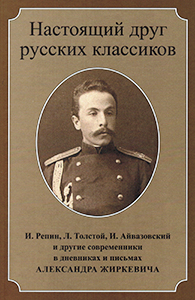
Впервые опубликовано:
Настоящий друг русских классиков.
М.: Художественная литература, 2017. С. 305-332.
Дополнено страницами дневника симбирского периода.
«Служа в военном ведомстве, во многом с ним не согласен, и иногда моя защита сводится к нулю, благодаря постановке закона. И только в редких случаях удается мне выручить несчастного подсудимого, и вот ради этих редких случаев я и не бросаю службу в военном ведомстве. Предложи мне миллион, я не бросил бы эту службу, т.к. в ней вижу возможность быть христианином не на словах, а на деле. Облегчить участь, вернуть доброе имя обвиняемому и т.п. «Человек прежде всего» на всех должностях военно-судебного ведомства». И я буду служить до тех пор, пока смогу приносить пользу».
(Дневник А. В. Жиркевича. 1890 г.)
ВИЛЬНА
1888 г.
26 июля. Начались мои защитительные речи. Мне уже пришлось говорить перед судом 4 раза, и я уже не чувствую того страха услышать свой собственный голос, как это было в первый раз, когда я должен был сказать лишь десяток слов. Вчера я оправдал одного солдатика, канонира 25 арт. бригады Осокина, обвинявшегося в покушении на кражу, в бытность часового. Бедняга перед началом дела умолял меня «защитить его», и я чувствовал, что он невиновен. Допрос свидетелей доказал мое предположение. Прокурор отказался от обвинения, и мне пришлось сказать пару слов. Когда Осокину вынесли оправдательный приговор и объявили, что он свободен, то он, как говорил мне дежурный офицер Кульбицкий, выйдя из здания суда, встал на колени и начал креститься. Встретившись же со мной, упал на колени и стал благодарить меня; я поднял его и объяснил, что моя роль в этом деле была скромна и что он должен благодарить суд, а не меня. Дело это и защита Осокина взволновали меня так, что я не спал накануне целую ночь и дрожал, когда допрашивал свидетелей. Ненадолго меня хватит, если и в будущем я также горячо буду принимать чужое горе к сердцу! <…> Ужасно подумать, что немногих улик, набрасывающих тень, было бы довольно, чтобы сослать Осокина в Сибирь: военный суд неумолим, и жертва порой нужна для поддержания дисциплины! На всех делах, в которых я защищал, председательствовал полковник Никифоров, личность мне не симпатичная. После одного дела он сказал мне много комплиментов и, между прочим, следующее: «Предсказываю Вам, что Вы пойдете далеко, если и потом будете так же относиться к делу и говорить такие речи, как теперь»! <…> Похвалы эти для меня, как новичка, очень важны, так как я еще учусь и не всегда знаю и уверен, поступаю ли хорошо или дурно.
1889 г.
С председателем суда Гариным [1] возникает спор о роли защитника. «Меньше защищайте, – говорит он, – в военном суде все заранее решено”. Но я с ним не согласен. С Гариным отношения все обостряются… Гарин подал жалобу на меня барону Остен-Сакену, [2] но тот не дает ход жалобе. Из-за сплетен Гарина все судьи настроены против меня и не хотят ехать со мной в командировки. Прошу барона Остен-Сакена прибавить из-за этого мне работы здесь в Прокуратуре, но он отказывает.
…История с Гариным кончилась моей победой. Приговор Гарина по кассационной жалобе, составленной мной, отменен. После этого снова стали мне давать защиту. И другая моя жалоба признана законной.
Борюсь, как защитник, за каждого темного беднягу, но закон дает мало возможностей для защиты.
…Я защищал дело солдата, который поднял руку на офицера. Солдата осудили на 12 лет каторги. Я пишу о помиловании на имя Государя… У меня много дел по защите. Радость, когда удается иногда оправдать.
…Имел разговор с бароном Остен-Сакеном, который расспрашивал о наших командировках и отменяются ли обвинительные акты. Он считал, что обвинительный акт должен лежать в основе суда. Можно было раньше разбираться, а раз уж дело дошло до суда – он не любит, когда обвинительный акт находят несправедливым. Я – наоборот, считаю, что очень хорошо, если выясняется на суде несправедливость обвинения, ведь тут и свидетели участвуют и легче дознаться до истины.
Выездная сессия. В Минске слушалось большое дело по обвинению нижних чинов в преднамеренном убийстве. Дело возмутительное, так как в нем замешаны невинные люди. Я так переживал чужое горе, что, возвращаясь в номер, плакал. Дело кончилось пустяками, как говорят, благодаря мне, моей защите. Никогда не забуду этого дела. Я был счастлив, что смог помочь людям.
Выездная сессия. Посетил дисциплинарный батальон с Беком [3] и Никифоровым. [4] Успенский буквально бегом вбежал к нам, расшаркивался, сладко улыбался. Гадкая тварь. Пришло на ум, что Иуда Искариотский не был, как его изображают мрачным, суровым, замкнутым, а как Успенский, вкрадчивым, смиренным, добродушным и болтливым. Общий вид солдат в дисциплинарном батальоне ужасен. Унылые, темные лица, пугливые взоры, торопливые движения. Как клетка со зверями. В числе солдат есть и видные люди. Например, князь Максунов и семнадцатилетний семинарист (очень симпатичный). Карцер ужасен. Воздух там отвратителен. Каждого вновь прибывшего сажали для усмирения в карцер. Бек возмущен. Смотрели, так называемый “светлый карцер», но там темно. Меня поразило, что я больше возмущался, когда обо всем слышал, чем когда увидел воочию. Это меня смущает. Неужели я люблю добро и ненавижу зло, только издали, как это было с одним из братьев Карамазовых. «Вас ненадолго хватит, – сказал Бек, – если все так принимать близко к сердцу».
1890г.
Слушали дело Неймана, уклонившегося от военной службы по случаю нервной тряски головы. Его обвинили в симуляции. Я был возмущен бессердечным отношением к подсудимому только потому, что он еврей. Я сказал речь, которая звучала, как оплеуха этим двум врачам – я говорил как людям от человека. Нейман был оправдан.
… Сегодня 1/2 часа беседовал в тюремном замке с 3-мя убийцами. Дорого бы дал, чтобы узнать, как было дело. Один из них мне в глаза не смотрит, но что-то говорит мне, это он менее виноват, чем другой, который держит себя развязно. А третий все время плачет. Если б защитник в каждом деле знал правду, сколько бы людей мог бы он спасти. 17-го мая вынесли обвинительный приговор всем 3-им в предумышленном убийстве и сослали на каторгу. А я уверен, что они просто хотели поколотить ефрейтора Домова, и поколотили так, что он умер. А все водка, водка!
1891г.
Я назначен помощником прокурора и оставлен в Вильне. А, между тем, невольная грусть наполняет сердце. Жаль расставаться с ролью, хоть и скромного, защитника. Принесет ли мне моя новая должность столько светлых минут?! Предчувствую, что на «Курульном» кресле я буду не раз впадать в роль защитника, что теперь мне не к лицу. Мое назначение вызвало полное сочувствие и в суде и в прокурорском надзоре. И содержание, и положение мое сразу улучшились. А все же мне грустно, словно я расстаюсь с юностью, с ее увлечениями, с ее горячим отношением к окружающему. И Катюше моей тоже взгрустнулось за меня. Она знает, как я всегда радовался, если мне удавалось, как защитнику, если не отвести карающую руку закона, то хотя бы ослабить удар.
7 мая. Я в первый раз обвиняю в суде! Никто не поверит, сколько мук душевных стоит мне переход от защиты к обвинению. Одна Катя видит мою борьбу, но и ей не говорю всей правды. Я убил бы ее, если б сознался, что приношу себя в жертву моим родным, которым должен помогать.
…На днях будет слушаться дело об оскорблении действием офицера – нижним чином, защитник Тыртов. [5] В беседе с генералом Голубом, [6] который будет председателем, Тыртов сказал о подсудимом, «это мерзавец, упеките-ка его подальше» (вообще, он считает всех солдат «скотами»). Я возмутился, зачем же он берется за роль защитника, когда не чувствует к этому призвания? – “А как же я тогда дойду до должности прокурора?» – говорит он. С этого дня он мне гадок и жалок – этот барчук крепостник, с ласковой улыбочкой, аккуратным пробором и камнем за пазухой против нищей братии.
Вильна. По двум делам я уже отказался от обвинения. Вчера обвинял двух разбойников. Главный разбойник Попов растравил мне душу. Он сидел, не поднимая глаз, с поникшей головой. А когда вошел мальчик, которого они с товарищем не дорезали, он с ужасом посмотрел на него. Мне кажется, это не окончательно падший человек. Я надеюсь, что он поймет свое преступление и может искренне раскаяться. Когда я стал говорить в его пользу, в его глазах было дикое изумление. А мне больно за него. Господи! Помоги ему выйти на путь правды и добра. Присудили обоих к каторге, но не так тяжко, как можно было ожидать. Я чувствую, что много таких дел, и меня не хватит. Что со мной творилось, я весь дрожал, и мне хотелось плакать. Мне ужасно жаль Попова.
Вильна. В суде паника. Навроцкий [7] засадил под арест на гауптвахту своего секретаря Эльяшевича, [8] человека лет 50-ти, недавно женившегося. Жаль старика, но давно пора дать ему трепку. Эльяшевич боится сказать об этом своей жене, приходил объясняться с Навроцким, но тот непреклонен. Судьи и помощники потрясены до столбняка и говорят шепотом. Подобная встряска в нашей жизни не помешает.
1892 г.
Март. Навроцкий уволен в отставку. На прощание он собрал нас, своих бывших подчиненных и сказал прекрасную речь, где коснулся тяжелого положения военного судьи и помощника прокурора, желающих работать честно и справедливо. Наши законы подчас слишком суровы. На этой работе можно совершенно растратить свое здоровье. Что с ним и произошло. Что должен испытывать, выходя из зала суда и встречая умоляющие взоры матери, отца подсудимого? Навроцкий, ранее отказывающийся принять от нас подарок икону Божьей Матери, теперь согласился на этот подарок. Со слезами на глазах, с дрожащими губами и страшно взволнованный, закончил он свою речь пожеланиями всем нам успехов и здоровья и словами «Прощайте». Я давно не слыхал такой чудной речи. У всех на глазах были слезы, и все с чувством перецеловались с этим почтенным человеком.
С. Петербург. Был в гостях у Навроцкого. Раньше двери, упорно закрытые для сослуживцев, теперь гостеприимно открылись мне. Главной темой нашего разговора были сомнения после посещения Толстого. [9] Мы говорили о моих обязанностях помощника прокурора. Навроцкий согласен со мной, что иногда ради семьи надо жертвовать собой, но оба мы осуждаем карьеризм, когда на суде прокурор, чтобы выделиться, сгущает краски и старается «закатать» подальше подсудимого. Навроцкий для общества пропал и как мне грустно за общество, из которого бегут такие великие умы и сердца.
13 сентября. Ясная Поляна. Спорить с Толстым невозможно, [10] он не признает никаких авторитетов, кроме себя. Я составил программу вопросов. Но он сбивает с ног, беря инициативу разговора и задавая часто ироническим тоном вопросы так, что сразу оказываешься в неловком положении. Я перестал спорить. Если такие имена, как Кони, [11] Навроцкий употребляются мимоходом, как нечто малозначительное, то, что же представляю я в глазах великого сектанта? А я, отстаивая взгляды на свою работу, хотел опереться на эти имена. При такой постановке спора скоро доходишь до полного изнеможения, полной растерянности. Недаром при одном споре я дошел до такого состояния, что стал дрожать всем телом. Толстой это заметил сейчас же. «Однако, какой Вы нервный, что с Вами?» Пребывание в Ясной Поляне, как я это испытал на себе полезно: тут все время говорит в тебе совесть и не удаются попытки обмануть себя софизмами, компромиссами. «Какое счастье, что я знал Л. Н.Толстого!» мог я воскликнуть.
1893 г.
Я так одинок в нашем суде! Какое тягостное состояние сиротства души среди множества других хороших душ!
… Несмотря на болезнь, должен обвинять корнета Зуева в нанесении увечья крестьянину. Генерал Житухин перед началом дела мне сказал: «Вы должны отказаться от обвинения» – «Не могу отказаться» – ответил я. Я поддержал обвинение, но в легкой форме, и Зуева засадили на три месяца на гауптвахту. Но как измучило меня это дело.
6 сентября. Минск. Перед отъездом из Минска я затеял целую историю во имя справедливости, обнаружив, что в местной тюрьме нижние чины, состоявшие под военно-окружными судами, содержатся вместе с арестантами (хороша нравственная школа, воображаю, что они вынесут из тюрьмы!), а также содержатся на общем довольствие (6 коп.), тогда как им полагается солдатский паек (10 коп.).
… От уставов императора Александра II-го остались в военном ведомстве жалкие остатки, благодаря решениям Главного Военного суда. Скоро и эти остатки исчезнут при произволе судей, при молчании прокурорского надзора. Нет! Надо начинать борьбу, хотя бы и единолично, хотя бы меня и съест “Голуб и С0«! Ведь все развращаются, и мы, помощники прокурора, тоже.
…Ад противоречий моей совести с моими обязанностями прокурора продолжается. Если б не сознание, что все же приносишь известную пользу обвиняемым и в тоже время содержишь маму, Машу, и бабушку – не стоило бы жить! Протекция мне положительно отвратительна. Знаю, что скажи я слово Герардам, [12] Гедеонову [13] и другим, мне бы нашли более подходящее место, но нет сил сказать это слово, и я не уверен, скажу ли его когда-нибудь.
1896г.
14 марта. Надо уходить из нашего ведомства! Честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол ставится выше закона. Сердце разобьешь о камни неправды, незнания, заведомой лжи, произвола. Каждый день ухожу из суда с сознанием, что вот-вот выйдет столкновение, и я брошу всем этим господам правду в физиономию. Вспоминаю боязнь Кати и смиряю себя. Как неузнаваем я стал. Господи! дай силы для борьбы! Не всели в меня привычку к чужому страданию! Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему!..
С.Петербург. Видел вчера талантливейшего и лучшего из людей современной России сенатора А. Ф. Кони. В назначенный день был у него. Говорили о многом… «Как Вы должны скучать в Вашем ведомстве, Вы горячее, любящее сердце, которого я познал уже до знакомства с Вами по Вашим книжкам?» Я ответил, что служу, так как стыдно уходить порядочному человеку, давая дорогу мерзавцам из-за желания покоя.
… Ко мне на ревизию попало дело солдата Егорова, [14] отказавшегося принять присягу из-за религиозных убеждений. Свой поступок он обосновал текстами из Евангелия. Его засудили на 3 года, как за неповиновение начальству. Попробую облегчить его участь в дисциплинарном батальоне. Мне ужасно жаль этого солдата.
1898г.
… Никогда еще так много и сложно не работал, как в эти дни по Красному Кресту, [15] по своей должности следователя, по частным делам – своим и чужим. По своей следственной работе нахожу вопиющие безобразия. Например, нашел арестанта, который не гулял месяц, не менял белье и не мылся. Я тотчас поднял шум. Чувствую, что могу принести много пользы в этом темном царстве, где люди забыты, заброшены, содержатся, как звери в клетке.
25 мая. Вернулся из Ораненского лагеря, где производил следствие о фельдфебеле Шелаеве, истязавшем солдат и мордобойце. Быть может, с точки зрения учения Христа, это нехорошее чувство, но порой «приятно скрутить мерзавца, спасти от него беззащитных солдатиков и дать ему почувствовать, что не всякий произвол и насилие остаются безнаказанными, что есть на свете закон и справедливость, с которыми приходится считаться”.
… Я решился вступиться за заключенных в камере № 14 нижних чинов (каторжане, покушавшиеся на побег). Господи! Помоги мне! Я еще сам не знаю, что сделаю. Всюду меня стесняет форма, мундир. Даже как-то жутко становится! Жутко сказать правду… Но скажу ее! И пусть на меня всё обрушится, лишь бы была совесть чиста.
3 июля. Ура! Оказывается, что постановление мое двинуло дело об устройстве по-человечески арестантов в № 14.
23 сентября. Порадовали меня вчера солдатики-арестанты № 14. Я был на гауптвахте на следствии и зашел в №14. Они очень обрадовались и просили книг для чтения, при мне были только брошюры, и солдаты громко, доверчиво выражали мне по этому поводу сожаление. Некоторые просили себе азбук. Я раздал, советуя безграмотным учиться у грамотных чтению.
… Как сложна моя жизнь! В один и тот же день я бываю: у Троцкого, [16] в школе, [17] камере № 14, в сумасшедшем доме, [18] в разных управлениях. Страдание бьет ключом. Иногда чувствую, изнемогаю. И вдруг новый прилив сил! Точно Господь стоит возле меня и поддерживает.
1899 г.
… В первый раз повез Гулю [19] в № 14 к военным арестантам. Знал, что их забудут и что им нечем разговеться. Я повез им куличи, яйца. Они меня ждали. Гуля первый раз входил в каземат к каторжанам, закованным в кандалы… Дай Бог, чтобы это посещение оставило глубокий след в его детской душе и отразилось на его будущем отношении к людям.
Вильна. Вчера я написал коменданту Шишину [20] письмо, в котором просил сделать мне Пасхальный подарок – выпустить из одиночной камеры в общую, каторжника Темнова, обезумевшего от одиночного заключения (при том незаконного). Шишин торгуется со мной, но я уверен, что будет сделано по моему.
3 апреля. Вильна. Рядовой Темнов переведен из одиночки в общую камеру.
1901 г.
Вернулся из Гродно, где производил следствие о капитане Игнатовиче, пробившем барабанную перепонку подчиненному, и сделавшему все, чтобы этого подчиненного упечь под суд за умышленную порчу уха. Я доказал, что солдат не виновен и привлек к следствию офицера. Начальство попробовало все сделать, чтобы замять офицерское дело, но я направил его так основательно, что осталось лишь покориться и привлечь мерзавца.
22 ноября. Благодарю тебя Господи, за то, что среди неправды, борьбы и страданий, ты всегда посылаешь мне луч счастья. Моя Каташа принесла мне со слов полковника Домбровского [21] известие, что благодаря моему донесению Куропаткину [22] о безобразном содержании арестантов в Витебске уже получен запрос. В запросе сделана ссылка на мою фамилию. Уже самый факт запроса заставит обратить внимание на наши клоповники и их мучителей. Со слезами благодарю тебя, Господи! Вот уж и жизнь моя получила хороший, ясный смысл.
1902 г.
30 мая. Сегодня один из лучших, счастливых дней моей жизни – военный министр Куропаткин вызывает меня, вследствие моей переписки, по поводу поставленных мною вопросов, в С. Петербург, чтобы я высказался о том, что можно сделать без особых расходов для военных арестантов.
15 июня. С. Петербург. Сегодня читал в Главном Штабе поднятое дело об улучшении быта военных арестантов, начинающееся моим письмом к Лузанову [23] и памятной запиской Куропаткину. Читал много меткого о моей записке со стороны командующего войсками и командиров корпусов. Что-то будет дальше?
С. Петербург. Дело об арестантах не подвигается в Главном Штабе. Кого нет на лицо, кто уезжает, кто «халиф на час», а кто откровенно говорит, что не слышал о поднятом мной вопросе.
С. Петербург. Ездил представляться генерал-лейтенанту Уссаковскому, [24] помощнику Начальника Главного Штаба. Заговорили о том, что Главный Штаб ждет от меня указаний на счет того, что можно сделать сейчас же по реформе гауптвахт, и что они ничего не имеют против, чтобы я на 2 недели уехал из Питера, а потом привез бы мой проект, но чтобы не мечтал о крупных затратах, а дал указание на ряд дешевых и умеренных реформ.
Вильна. Давно не ощущал такого подъема духа, как в эти дни, во время работ по составлению новой памятной записки об улучшении материальных и нравственных сторон быта арестантов.
4 июля. Еду сейчас в Петербург на страдания и борьбу. <…>
В казначействе сегодня столкнулся я с известным изувером я кровопивцем ген. Успенским, бывшим начальнике дисциплинарного батальона в Бобруйске… Мы не виделись много лет, и он узнал меня, злобно оскалился и заговорил на тему о том, что m-me Бурза, ур. Гонецкая, ему передавала, что по поводу арестанта Егорова я писал о нем, Успенскому, «остроумные вещи». А я его ругал: мерзавцем, изувером, извращенным человеком и просил Бурза спасти от его когтей бедного Егорова. Видно, она ему все рассказала, и мне было приятно видеть, как эта тварь вся коробилась от одного моего присутствия! Успенский заговорил о желании его со мною объясниться. Я ответил, что буду к его услугам, когда вернусь в Вильну. Нарочно пойду, чтобы высказать этому зверю всю правду.
9 июля. С. Петербург. До сих пор в Главном Штабе не заглянули даже в мою записку!! Воображаю, какая злоба кипит там в сердцах тех, кому предстоит распутаться с поднятым мною вопросом! Навроцкий советует «мудрость змия и кротость голубя” (но выдержу ли я с моим нравом?). <…> Еще и еще дни ничего не делания! Пойду в Главный Штаб выяснять мое положение. Ведь явно надо мной там глумятся.
11 июля. С. Петербург. Наконец-то мне удалось немного подвинуть мое дело в Главном Штабе. Хотя с неудовольствием, мою памятную записку прочел Подгурский. [25] Ее доложат начальнику Главного Штаба, а затем, до приезда Куропаткина меня отпустят в Вильну.
14 июля.С. Петербург. Был на приеме у Куропаткина. Куропаткин пожал мне руку и благодарил меня за то, что я напомнил ему об арестантах в общих гауптвахтах, что он мне обязан за поданную ему памятную записку. Затем он заговорил о реформах дисциплинарных батальонов, что для изучения вопроса за границу командируются три офицера, в том числе один военно-судебного ведомства. “Я указал на Вас», «помогите нам» и «хотел бы, чтобы время, проведенное заключенными в дисциплинарном батальоне, проходило для них и для общества с пользой. Необходимо заставить их работать. Думаю прикупить земли для устройства огородов и т.п. Пусть это будет труд тяжелый, чтобы арестант его чувствовал. Помогите создать какое-либо учреждение, хотя бы из тех, что были уже, ну, хоть вроде Аракчеевских поселений (тут Куропаткин улыбнулся глазами). Еще раз благодарю Вас». В этом роде была наша публичная беседа. Все больше говорил сам Куропаткин. Откланявшись министру, я вышел.
26 августа. Вильна. Получил из Петербурга письмо. Главный Штаб еще 1-го августа препроводил мою записку в Главное Судебное Управление, а мерзавцы из Главного Штаба на мое письмо даже не ответили.
27 ноября. Целый месяц я не принадлежал себе, погруженный в тайны и разоблачения подробностей возмутительного убийства жандарма Николаева в Виленском военном госпитале. Здорового человека посадили в сумасшедший дом, и его убили служители. Пришлось вырывать и вторично вскрывать труп погибшего. И какой мирок военно-врачебных душонок я открыл! Что за типы, что за бессердечие и подлости! Какую приходится вести борьбу за правду с патентованными, украшенными значками мерзавцами! Конечно, не все такие Я так увлекся борьбой за несчастного Николаева, что неизвестный мне покойник стал мне чем-то дорогам, родным!.. Враги мои множатся.
13 декабря. Делается все, чтобы спасти мерзавцев врачей и прикрыть беспорядки по делу жандарма Николаева! Против меня сплотились – военный прокурор Дорошевский, [26] по слухам, штаб округа, госпиталь, окружное медицинское управление.
23 декабря. Возмущенный подлостями, которые делаются в Вильне, чтобы замять историю со смертью жандарма Николаева и спасти мерзавцев врачей, я написал открыто военному министру [27] и Н. В. Сперанскому. [28]
25 декабря. С восторгом вижу, что встряска данная мною в госпитале, послужила на благо больным: все приняло должный, законный вид… Надолго ли? <…> Письмо мое к Куропаткину возымело все-таки действие, спасти мерзавцев докторов не удалось, делу о них дан ход. Но зато я приобрел в лице генерала Гриппенберга [29] злейшего врага.
1903 г.
17 февраля. Давно волны людской ненависти не плескались так с такой яростью в мою жизненную ладью, как теперь, благодаря делу жандарма Николаева… как все это характеризует уровень нравственности и справедливости Виленского Общества!
I марта. Каждый день хожу в застенок, называемый следственной комиссией по делу о беспорядках в Виленском военном госпитале. Генерал Митрофанов [30] верно определял значение комиссии: «она – суд над полковником Жиркевичем». В состав комиссии вошли: ген. Мухин [31] и полковник барон Нолькен, [32] предубежденные против меня, и все усилия употребляются для того, чтобы доказать, что я раздул дело… И я один, один борюсь, вот уже месяц, за каждый клочок правды… Право не знаю, откуда у меня берутся силы!
3 апреля. Следственная комиссия окончила свою позорную деятельность… Пришлось таки привлечь в качестве обвиняемых трех врачей. И то, благодаря мне, заносившему правду в протоколы заседаний.
21 апреля. Благодаря госпитальному делу, захватившему меня с головой, я сразу оторвался от Виленского общества и не чувствую никакой потребности в общения с ним. Быть может, я и пострадаю по службе или буду вынужден искать другую службу, но не буду молчать, а стану говорить правду о смерти несчастного жандарма Николаева, и о порядках Виленского военного госпиталя… В городе уже говорят о суде надо мною, распускают разные неблаговидные слухи.
25 апреля. Дело, правда которого теперь всецело зависит от усмотрения ученого комитет, где сидят военные врачи, нежелающие выдать своих!.. Давно я так не был одинок в борьбе, давно столько туч не сгущалось надо мною, и давно уже совесть моя не была так спокойна, а воля непоколебима…
7 мая. Правда, я удостоился, чтобы на моей надгробной плите была сделана надпись: «А. В. Жиркевич 6 месяцев боролся за правду – один против сотен влиятельных врагов по делу жандарма Николаева».
5 июня. Я получил письмо, в котором мне сообщалось, что Куропаткин высказался за перевод меня из Вильны, так как благодаря делу жандарма Николаева, создалось в Виленском военном округе неудобная для меня служебная обстановка. Конечно, это подлая интрига Гриппенберга.
5 июля. Сердце мое болезненно сжимается при мысли, что надо покинуть Вильну, где 30 лет я жил, учился, любил и боролся, где каждый камень, так сказать, красноречиво напоминает о прошлом, о пережитом и перечувствованном. Из людей, которых я здесь любил, так мало осталось в живых. Да мне не столько жаль здесь людей, как самого города и окрестностей. Мерзавцы, которые разлучили меня с городом, наносят моему сердцу жестокую рану, но Бог видит, на чьей стороне правда. Но хотя бы меня сослали в Якутск, я буду говорить, что дело жандарма Николаева – грязное, возмутительное дело, за которое легко переносить всяческие муки!
21 июля. У меня два выхода: 1) плюнуть на все и уйти в отставку и перейти в гражданское судебное ведомство и 2) принять предложение и остаться в нашем печальном ведомстве и уехать в Москву. Я чуть было не написал о выходе в отставку. Но тогда я рву связь с поднятым мною вопросом о состоянии гауптвахт, о реформах в военно-тюремном ведомстве. А ведь в этот вопрос я вложил уже изрядный клочок моей жизни! Вот сижу и колеблюсь.
22 сентября. Снова возобновил борьбу по делу жандарма Николаева. Благодарю Бога за то, что мое личное горе [33] не убило во мне энергии на борьбу за правду.
5 ноября. Доживаю последние дни в Вильне… Да, надо много верить в правое дело, чтобы жертвовать этому делу самым дорогим на свете – семейным счастьем!.. Прощай, Вильна, дорогая мне до боли, до слез, до страдания по воспоминаниям, живым людям и могилам! Прощай и не поминай меня лихом! А я тебя не забуду.
СМОЛЕНСК
1904 г.
24 января. Смоленск. Корпусный командир разрешил устроить для арестантов Смоленской гауптвахты библиотеку. Это радостное событие в моей жизни. Выписываю книги. Явилась еще одна разумная цель жизни моей в Смоленске.
I марта. В виду отказа Вестенрика [34] допустить для военных арестантов книги, кроме уставов и религиозных, я выхлопотал у Ребиндера [35] разрешение. Вчера говорю это Вестенрику, а он с упрямством немца уверяет, что не может допустить по уставу. Напрасно доказывал я ему, что уставы и религиозные книжки при условиях жизни военных арестантов не будут читаться последними, а в крайности обратят их в идиотов, не говоря о том, что религиозные книжки не для татар и евреев. Удивительное противодействие встречал я много лет подряд при желании просветить несчастных военных арестантов. Вот где «темное царство», ждущее своего Островского!!.
11 августа. Я дождался счастливой минуты, прочел радостную весть об отмене телесных наказаний в России… Я не верил собственным глазам, мне хотелось броситься кому-либо на шею и заплакать от радости… Я знаю еще не скоро изживутся на деле телесные наказания… Но нет позорного закона, дававшего право пороть и унижать ближних! Вот в чем сила!
1906 г.
5 мая. Посетив как-то казематы Капорского полка, я нашел двух забытых заключенных-рядовых. Дела их, за которые они подлежали наказанию самому ничтожному, затеряны начальством. О них шла бесконечная переписка. А пока они сидели зря по 8 месяцев, не зная, за что сидят, и когда их освободят. Фамилии несчастных: Алексеев и Васильев. <…> Перед отъездом Плеве [36] из Смоленска, я просил его сделать мне на прощание подарок – освободить этих заключенных. Сегодня приходил ко мне Алексеев с вестью, что и его товарища выпустили из под ареста.
21 июня. Единственная деятельность, на которой чувствую себя сносно в нашем ведомстве – должность военного следователя… Из Москвы подали в отставку трое генералов. Да и я одной ногой в отставке… Коли я приму звание судьи, то для того, чтобы показать, что для меня закон – все, а инструкции и предписания – ничто.
31 июля. Какой-то вихрь, ураган смерти уносит в России все энергичное, отважное, сильное духом – с обеих враждующих сторон: со стороны правительства и революционеров. Ведь нельзя отрицать это – в рядах «красных» есть герои, любящие Родину! Если бы направить эти гибнущие силы в иную сторону, какая бы энергия была сохранена Родине. Не сочувствуя революционерам, я плачу о том, что уносят они с собою в могилы… Еще год и в России останутся одни дряблые, космополитические ничтожества.
12 сентября. Дело жандарма Николаева убило во мне веру в законность, в правду, в торжество справедливости.
30 октября. Генерал Павлов, по ходатайству моему, оставил меня еще на год военным следователем в Смоленске. Слава Богу, что на время миновали меня малиновые лампасы, почет и 4000 р. содержания! Какое счастье, что я не военный судья! Можно ли гак глубоко уронить это высокое звание, как оно уронено… Суд на службе у военного начальства!! Бедный Д. Н. Милютин, [37] если он видит и сознает, что сделали с его детищем, о котором с такой любовью он мне писал!! Военные смотрят на полевые суду, как на законную меру. А это, в сущности, не суды, а произвол и палачество.
25 ноября. Никогда еще не была так на сердце во мне решимость – уйти из нашего мрачного ведомства, спасаясь от звания судьи, хорошего оклада жалованья, малиновых лампас, как теперь.
1907 г.
28 апреля. Вчера был один из счастливейших дней моей жизни: комитет по образованию войск прислал мне копию доклада своего Военному министру – по вопросу, возбужденному мной об улучшении быта военных арестантов. Почти все мои меры приняты. Военный Министр дал согласие на реформы!
16 мая. На днях должен я решить мою судьбу – уйти ли в отставку или идти в судьи… Думаю, что пойду на эту Голгофу, чтобы потом не говорить себе, что я бежал от призрака, т. е. уклонился от должности, не вкусив ее терний.
19 мая. Тяжелые чувства выношу я из заседаний. Но как ни странно, а мне все более стыдно бежать от креста военного судьи!.. Никогда не поведу я близкого на виселицу, но за то, сколько можно принести пользы ближнему, впавшему в преступление! Если уйду с должности военного судьи, то тогда лишь, когда увижу, что честно, по христиански служить нельзя.
29 мая. Слава Богу, на время должность военного судьи меня миновала. Получил из Главного управления письмо, в котором уважена моя просьба – иметь в виду для меня вакансию в Вильне. А ее пока нет! <…> Ужасы рассказывают про военного судью ген. Арбузова. [38] Для этой твари в мундире нашего убогого ведомства, нет большего удовольствия, как приговорить к смертной казни, повесить «политического». Чтобы доставить себе удовольствие, «Тварь» просит себе дел, где предвидится смертный приговор, и с восторгом рассказывает о том, когда и за что и сколько он повесил. «Тварь» получала за свои подвиги даже повышение.
20 ноября. Получил вчера раздирающее душу письмо от каторжника Павперкова. Бедняга еще рассчитывает на меня, а я бессилен ему помочь! Его начало письма: «Здравия желаю Ваше Высокоблагородие! – прозвучало для меня приветствием Цезарю гладиаторов – «мертвые тебя, Цезарь, приветствуют». Боже, сколько горя, страданий, слез!
1 декабря. Написал отцу И. Восторгову, [39] умоляя просить Гершельмана [40] остановить казнь осужденным военным судом и дать ход в Главном Военном Суде кассационной жалобе защитников. Ужас! Ужас! Гершельман может не дать хода жалобе.
11 декабря. Вчера временный суд приговорил снова к смертной казни крестьянина Конова (18 л.) и Марченко (19 л). Почти дети, мало развитые и зараженные эпохой нашей подлой революции, они, напившись, подстерегли почту и выстрелами убили ямщика и ранили почтальона, ничего не успев взять, и затем во всем созналась. Один из них – Конов на суде все время дрожал, так, что я в 10-ти шагах это видел, и плакал. Даже сам кровожадный Фишер, присудив к повешению детей, составил постановление о замене смертной казни каторгой.
1908 г.
5 января. В ночь на 3 января повесили осужденного временным судом Марченкова. Гершелъман, несмотря на ходатайство суда, велел вздернуть этого хорошего, кроткого, симпатичного ребенка, заменив его соучастнику Конову смерть каторгой. Недавно еще говорил о Марченко. Теперь это дитя не страдает. Но Бог видит правду. От Гершельмана требовалось лишь милосердие и рассудок.
17 января. Хочу написать протест Столыпину [41] по поводу убийства Марченкова. Знаю, что теперь такие заявления более чем когда-либо опасны. Но тень ребенка меня преследует… Пусть гонят со службы! Мой покой отравлен… Быть может, мое заявление остановит казнь в другом месте! Я совсем расхворался физически, но ум не меркнет, а сердце по-прежнему бьется тревожно на всякую неправду!
1 марта. Свершилось! Как телеграфирует П. А. Плеве, я военный судья Виленского военного округа. Едва ли кто из нашего ведомства с таким горем принимал это повышение, как я!
ВИЛЬНА
1908 г.
1-8 мая. Вильна. Я снова в родной Вильне! Но какая здесь во всем перемена! Город стал красивее. Извозчики на резиновых шинах, всюду польские надписи, русская мысль робко бьется в медвежьих углах города. Репрессии администрации; притаившаяся, выжидающая революция. Наши военно-окружные суды вешают и вешают… Судейскую присягу мне пришлось принять в заседании по делу об убийстве ген. Шковского, когда всех обвиняемых, в том числе женщин, приговаривали к повешиванию.
27 мая. Слышал разговор Чернецкого [42] с бароном Остен-Сакеном [43] о политических делах, где является сомнение и где, поэтому, приходится оправдывать, идя на уступки. А Остен-Сакен возражал, в том смысле, что не надо сомневаться, т.к. большинство дел таких с сомнением. Итак, нечего сомневаться, будем вешать, угождать начальству! Бог там отделит правых от виноватых. А я не ухожу еще, так как с 1-го июня мои судейские каникулы.
4 июня. Имение «Замечик». Хорошо в «Замечике», а душа полна предчувствием грядущих осложнений по службе.
17 июня. Имение «Замечик». Получил чудесное письмо от А. Ф. Кони – по поводу моих судейских сомнений. [44]
19 июня. Вильна. Кончается месяц моих судейских каникул. Опять от симпатичных рукописей я приду к действительности, к ужасу ожидания момента, когда совесть моя и чужая смерть столкнутся в моей душе. Кони советует терпеть до нравственной крайности, не уходя, а принося пользу, …где истина?
I ноября. Вчерашним числом подал, наконец, в отставку. Слава Господу, давшему мне силы разрубить этот Гордиев узел. Барон Остен-Сакен зовет мой поступок «бегством с поля сражения». Пусть будет так! Пусть торжествуют Никифоров, Форов, Дубле… и пр. сволочь, выносящая заведомо подлые смертные приговоры! Я не хочу быть более в их рядах. <…> История еще произнесет свой суд над этой мрачной эпохой в жизни любимых детищ Д. А. Милютина. И мне не хочется, чтобы мое имя фигурировало на скамье подсудимых. Я сегодня так счастлив, так рад, так уважаю сам себя… Тяжело нам будет с Катей в первый год моей отставки в материальном отношении, при нищенской пенсии. Но и тут Бог нас не оставит!!
6 ноября. Хожу еще в суд в виду недостатка наличных судей. Все более и более у меня радостно на душе, при сознании, что я разорвал связь с этим миром беззакония, жестокости, низкопоклонства, карьеризма за счет ближних.
1909 г.
9 января. На днях барон Остен-Сакен сказал, что мой уход из военного ведомства, упрек тем, кто остался служить. Вечером меня порадовали посещением: он, Бернадский [45] и М., мне дорого, что удалось уйти, не обидев этих порядочных сослуживцев, но, не скрывая правды.
18 января. Только что получил от Скугаревского [46] письмо о том, что военный министр Редигер [47] в виду моего заявления, ему сделанное, изменил свой взгляд на чтения, прогулки арестованных: будут допущены все книги, которые читаются находящимися на свободе чинами, будут гулять не одни следственные, но и другие арестованные. Все это вводится в новый устав гарнизонной службы, я счастлив, счастлив! Но многие ли поймут эту радость?!
1910 г.
3 мая. С. Петербург. Сухомлинов [48] встретил меня полу упрёком, из которого я понял, что «около» он считал до 12-ти часов. Принял он меня удивительно любезно, сердечно, просто. Благодарил меня за поднятое мною дело о военных арестантах, заявил, что по получении моего письма он сейчас же командировал в Вильну подп. Плотникова к ген. Мартсену. [49]
9 сентября. Вильна. Мне удалось: 1) выхлопотать у коменданта полк. Темникова, [50] чтобы арестованных водили в баню непременно 2 раза в м-ц; 2) разрешение получать газету «Виленский Военный Листок». Но солдаты сделали мне новые заявления: 1) просят дать машинку для стрижки волос; 2) увеличить порции мыла, отпускаемых от казны на мытье, чтобы иметь возможность помыть и белье.
14 сентября. Газеты раздаются арестованным. Машинку я купил и пожертвовал в Комендантское Управление». [51]
14 ноября. Как я и ожидал, так и случилось! Вчера принесли мне бумагу из штаба Виленского военного округа, в которой сказано, что в виду того, что я вышел в отставку: Гершельман отменил данное мне его предшественником разрешение на посещение общей гауптвахты. Бедные мои узники!
19 декабря. Вот скоро и праздник Рождества, Нового Года, когда я ходил на гауптвахту поздравлять арестованных, носил им улучшенную пищу, книги. Теперь по произволу грубой силы я был оторван от узников, лишив последних праздничной радости – видеть сочувствующего их страданиям человека.
1911 г.
1 января. Прислали мне на Новый Год телеграммы: Дорнины (из Смоленска) и князь Длуцкий (из КР. Двинска) – два лица, в судьбе которых, как осужденных я принимал участие. Это как бы вознаградило меня за невозможность посетить на праздниках «моих» заключенных, гауптвахты.
20 января. За мною, кажется, устанавливается репутация скандалиста: у меня все истории, да истории… Но не могу же я молчать, когда вокруг хамы и хамство? Мы гибнем от недостатка гражданского мужества, от боязни говорить громко. В громадном большинстве мы трусливые, приниженные рабы, ждущие подачек и одобрения и гнущие спину перед апломбом и наглостью.
12 марта. Имел счастье получить вчера из Главного Штаба (в ответ на мое письмо к Сухомлинову) извещение, что дело с реформами на общих гауптвахтах снова двинулось вперед.
16 октября. Был у меня Л. М. Солоневич [52] и сделал мне упрек, что я отвлекаюсь частными случаями, трачу напрасно силы в такой борьбе, тогда как мог бы принести пользу более основательными трудами на благо Северо-Западного Края. Я ответил, что признаю некоторую справедливость его упрека. И тут же рассказал о встрече со старцем Зосимой. [53] Мог ли я пройти мимо его страданий, не попытаться спасти его архив, чтобы осветить правду его жизни? Тоже и с Орловским, [54] – продолжал я, – он был моим другом и никто за него, покойного не вступился. Вправе ли я молчать и увлекаться работами общего характера. «Но Вы один? – Так что же. И один в поле воин… Надо бороться с неправдою и одному против легиона».
СИМБИРСК
1916 г.
1 февраля. Вчера читал в исправительном отделении в мужской тюрьме. В последней, два слепых умоляли отделить их в особое помещение от зрячих, их обижающих, просили дать книги с выпуклым шрифтом. Слепцы отбывают наказание… Это ли не абсурд, не жестокость?!.
29 февраля. Вчера снес в губернскую тюрьму слепому арестанту Соколову книгу с точечным шрифтом для чтения. Надо было видеть его радость! Наконец-то, по моей просьбе, его устроили лучше. Но чего это мне стоило!
14 марта. Получил письмо от министра юстиции. По моему заявлению, он велел симбирскому прокурору Карасеву дела о моих арестантах слепых переслать в Петроград, в министерство юстиции, для смягчения участи несчастных. Итак, пока в Симбирске плюют на меня, за мои заявления о слепых, в Петербурге зашевелились. Сколько было у меня, в Симбирске, из-за этих слепцов неприятностей! Они, бедные, об этом и не подозревают.
21 марта. Секретарь прокурора принес мне показать справку о слепых узниках и спросить, нет ли у меня в виду еще таких узников? Поблагодарил я в душе Бога за то, что и тут и там дела помощи ближним подвигаются вперед.
7 апреля. Имел великое счастье вчера в тюремной инспекции видеть циркуляр всем губернаторам России, разосланный по приказу министра юстиции главным тюремным управлениям, о слепых арестантах (кажется, от 30 марта). Значит, на моё заявление о слепых обратило правительство внимание! Боюсь радоваться, однако, наученный горьким опытом… Хотя бы одно великое, правое дело удалось довести мне до конца!!
1917 г.
13 февраля. Пришла от министра юстиции телеграмма, в которой сказано, что по Высочайшему повелению приказано слепых арестантов Соколова и Абрамова (тех самых, за которых я месяцев 9 просил и министра юстиции и Главное тюремное управление) освободить с каторги и отдать в богадельню общего призрения. Соколова я уже не застал в тюрьме. Арестанты говорили, что, узнав об освобождении, бедный плакал, смеялся, благословлял меня и просил передать его благодарность… Надо поддержать Соколова и материально на первых шагах его свободы. Вот и ещё одна ближайшая цель жизни.
17 февраля. Вчера разыскал в губернаторской земской богадельне слепца Соколова, вымытого, чисто одетого, накормленного, в тёплом помещении, имеющего свою кровать. Дал ему на новоселье немного денег и вообще аттестовал его в богадельне как человека безопасного и несчастного… Случай освобождения с каторги слепого арестанта и помещение его в богадельню, т. е. на положение относительной свободы, первый в России.
6 марта. Сегодня, едва я пришёл, начальник тюрьмы объявил мне, что тюрьма меня ждёт с нетерпением. Он показал два прошения арестантов на имя Родзянки и Керенского, в которых они просят всех их, триста человек, освободить из тюрьмы на позиции. Когда я пришёл, набралось арестантов такое множество, что было трудно протиснуться. У всех лица возбуждены. Кто-то из арестантов стал глумиться над Государем, над прежним правительством и сказал, что царя и правительство прогнали. Я остановил его, сказав, что Государь сам ушёл, отрекшись от престола, а вместо прежнего правительства есть новое, временное, что мы не без правительства и это правительство приказывает нам ждать дальнейшего. «Как это есть правительство! Как это само ушло! Выходи, братцы!» И с шумом, с бранью, грозно на меня взглядывая, вся ватага человек в 250 повалила вон. Я скоро остался с несколькими арестантами. Происшедшее меня огорчило, т. к. при таком настроении в тюрьме может вспыхнуть бунт, за которым последует усмирение, может быть, и кровавое…
26 марта. Вчера тронул меня молодой Аввакумов, спасти которого с каторги я так старался, но которого спасла революция. Он пришёл ко мне в солдатской форме благодарить за участие в его судьбе. Я сказал ему, что, к сожалению, мне не удалось ему помочь. За что же он благодарит? Оказывается, он не может забыть, как я его нравственно поддержал в тюрьме, в каторге надеждою на избавление, сообщая ему о предпринятых мною мерах. «Без этого куда тяжелей было бы мне в тюрьме, – говорит юноша. – А тут всё надеялся. Спасибо вам». – «Спасибо и тебе, Аввакумов, за доброе слово!» Потом он коснулся пакости, проделанной со мною 5 марта уголовными арестантами, и так хорошо сказал: «Вот когда они вас, ваше превосходительство, так огорчили!» Милый, милый! Именно «огорчили». И злобы против них у меня не было ни на минуту. А чувство «огорчения» и сейчас живёт во мне; точно кто-то нанёс мне рану, и рана эта ещё не зажила, не даёт благодаря боли забыть прошлую обиду… Спасибо, что хоть один вспомнил меня из множества, на которых я работал.
Страницы Симбирского дневника полны историй человеческих судеб, и, поистине, библейского страдания, выпавшего на долю наших предков. В нечеловеческих условиях Александр Владимирович Жиркевич продолжал служить Человеку, а через это служение — Богу… Заканчиваем мы этот раздел размышлениями Александра Владимировича о смысле судебного наказания.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ СУДЕБНОГО НАКАЗАНИЯ.
А. В. Жиркевич «разделял преступников на две категории: впавших в преступление по несчастью и глубоко больных душевно, нравственно, в силу своей природы, характера, среды, воспитания… Общество вправе защищаться, наказывая за преступления, но, затем, уже в тюрьме должно проявляться попечительское, великодушное влияние судебного ведомства, которое должно помочь бывшим преступникам обрести человеческое достоинство и возможность, затем, полноценного участия в общественной жизни».
(Автобиография 1923 г.).
Подготовлено Н. Г. Жиркевич-Подлесских
Примечания: М. И. Щербакова и Н. Г. Жиркевич-Подлесских