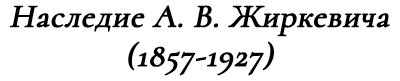О необходимости изменить нравственную и материальную стороны быта военных арестантов
Памятная записка [1]
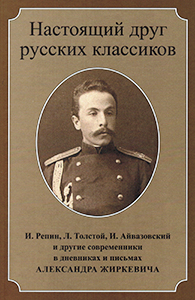
Впервые опубликовано:
Настоящий друг русских классиков.
М.: Художественная литература, 2017. С. 340-348.
В предписании г-на военного министра от 18 мая сего года за № 27930 на имя командующих войсками военных округов, [2] которое прочлось с искренним восторгом всеми, кому дорого нравственно-религиозное воспитание нашего солдата, забыто (или пропущено) значительное количество военнослужащих, главным образом и нуждающихся в благотворном на него воздействии. Я говорю про нижних чинов, содержащихся на общих так называемых главных военных гауптвахтах: так как в предписании говорится о частях (единицах, имеющих определенную организацию), то военные арестанты, как не составляющие военно-административную единицу, под эту категорию не подойдут, почему они по-прежнему останутся вне благотворного течения, возникшего в силу высочайшего повеления. А между тем быт военных арестантов на большинстве таких гауптвахт — поистине ужасен. Удостоверяю это тем смелее, что лично я прекрасно изучил этот быт, интересуясь им и многие годы постоянно посещая арестантов сперва в качестве строевого офицера в караулах и помощника военного прокурора, а теперь как военный следователь.
Позволяю себе привести яркую, поучительную иллюстрацию к сказанному мною, чтобы не быть голословным.
В 1898 году участились случаи побегов, покушений на побеги и беспорядков на главной гауптвахте гор. Вильны (№ 14 бывшей Виленской цитадели), входящей в район вверенного мне 2-го Виленского военно-следственного участка. При производстве следствий, часто бывая на гауптвахте, я начал невольно вникать в причины такого упорного настроения арестантов, которые, казалось, нарочно совершали иные преступления. Результатом моих исследований было глубокое возмущение за человеческую личность, грубо и безнаказанно насилуемую, что — в свою очередь — вылилось в постановлении моем на имя командующего войсками, которое при сем в копии прилагаю. Постановление это основано только на голых фактах и на протоколах осмотров, подписанных теми, кому непосредственно была вверена судьба арестантов. В него не попали, конечно, личные мои впечатления и общий из них вывод. Оборванные, грязные, покрытые паразитами, нестриженые, с серо-зеленым цветом осунувшегося лица, озлобленно смотрящие на всякого офицера, входящего в камеру, и видящие в нем врага люди, люди, которых никогда не посещали священник и врач, которые кроме брани чинов караула никогда не слышали разумного, сочувственного, ободряющего слова, в душных и грязных помещениях, асфальтовый пол которых был покрыт испаряющимися, размазанными по щелям испражнениями, вытекшими за ночь из попорченных параш, — арестанты № 14 произвели на меня удручающее впечатление и похожи были на зверей, запертых в клетке бродячего зверинца. Мне понятна стала жажда их — спастись из этого ужаса!.. То обстоятельство, что постановление мое, вызвав неприятности в моей жизни на личной почве, не повлекло, однако, для меня серьезных служебных последствий и не вызвало опровержений со стороны военного начальства, в связи с тем, что благодаря моему энергичному вмешательству по возможности были устранены указанные в постановлении беспорядки, говорит за то, что я был вполне прав и что постановление мое явилось более чем своевременным и законным. Помещение арестантов было заново отделано, увеличено, впервые за много лет у них периодически стал появляться врач; паразиты уничтожились; больные были удалены от здоровых, каторжники от арестованных «впредь до особого распоряжения». Но насколько в военной среде в течение многих лет укоренились странные взгляды на военных арестантов, сидящих на общих гауптвахтах, видно из того, что, прежде чем писать мое постановление и утруждать им высшее начальство округа, я лично говорил о возмутительном противозаконном содержании арестантов с караульными офицерами (которые обязаны же, по уставу, доводить до сведения комендантского управления о замеченных беспорядках), наконец, с самим комендантом (ныне умершим) полковником Шипиным. Ни этот в сущности добрый, гуманный старик, ни офицеры, между которыми были несомненно люди вполне порядочные, видимо, не понимали моих заявлений, вероятно, находили, что я сентиментальничаю, преувеличиваю, и даже громко заявляли, что такие «мерзавцы», «негодяи» не стоят лучшего обращения и обстановки. А один из них высказал предположение, что если улучшить быть военных арестантов на моих началах, то многие нарочно будут делать преступления, чтобы из строя попасть в хорошую обстановку гауптвахты и ничего там не делать. Напрасно я толковал об уставе гарнизонной службы, в котором ясно указан законный порядок содержания арестантов, говорил о таких азбучных истинах, как человеколюбие, милосердие к заблудшему меньшому брату; напоминал о том, что между безвозвратно погибшими есть гибнущие, которых можно еще спасти; что лишение свободы уже само по себе — тяжкое наказание, а ради нескольких негодяев, желающих попасть за решетку, чтобы ничего не делать, нельзя же губить массу рвущихся на свободу, в строй… Меня слушали с прежним недоверием, с сомнением — и безобразия в № 14 упорно продолжались. Тогда-то по долгу службы и совести вынужден был я составить прилагаемое постановление, какого, смею думать, со времени учреждения в Вильне военно-окружного суда по отношению к содержанию военных арестантов не бывало никогда.
Но, улучшив быт несчастных заключенных в материальном отношении, я хорошо понимал, что сделал далеко не все то, что подсказывало мне христианское отношение к ближнему. Надо было подумать и о духовной пище заключенных, т.е. о том, без чего все реформы, введенные благодаря моему постановлению, теряли свой смысл и значение. Кроме того — сознаюсь в том — мне хотелось, посещая гауптвахту вне службы, иметь возможность видеть, приводятся ли в исполнение намеченные перемены или они остаются лишь на словах и бумаге. Отсюда естественно возникла у меня мысль об устройстве хотя бы небольшой библиотеки для арестантов, нижних чинов, а также чтений — с целью их просвещения. В 1898 году, после немалой борьбы, получено было мною разрешение — устное от покойного генерал-адъютанта В. Н. Троцкого и письменно от коменданта полковника Шипина на право раздавать арестантам для чтения книги, дарить им Евангелия и молитвенники; устраивать с ними собеседования. Программы для собеседований от меня не требовалось, что указывает на легкость взгляда на этот предмет и что, в свою очередь, во избежание недоразумений, заставило меня отказаться от собеседований.
Так как на покупку книг я не мог добиться субсидий, то я выписал книги, солдатский журнал и устроил шкаф на свой собственный счет и начал выдачу книг арестованным. При первом же посещении камер заключенных я даже не нашел икон, которые с разрешения комендантского начальства купил сам и повесил, что можно видеть из дел комендантского управления. Каждую неделю — один или два раза — имея на то допуск коменданта, я входил беспрепятственно в камеры заключенных, давал им для чтения книги, раздавал Евангелия и молитвенники, стараясь объяснить им значение полезной книги. Кроме того, мною выдавались в камеры дешевые азбуки, по которым по моему приказанию грамотные обучали неграмотных товарищей по заключению. За все время трех лет никто не помог мне в этом деле, кроме генерала Богдановича, приславшего один раз 30 экземпляров брошюр о царе-миротворце для раздачи нижним чинам, но затем переставшего отвечать на мои просительные письма.
Скоро я мог убедиться в том, что потерял время и деньги недаром: интерес к книге с каждым днем рос у моих заключенных. И, бывало, только что узнавали они, что я пришел в № 14, как начинались усиленные звонки — вызов караульного унтер-офицера с умильной просьбой доложить мне, что арестанты, мол, просят «книжечек для чтения», и с выражением боязни, что я пришел на следствие и не зайду в камеры. Приходя, я проверял успешность обучения грамоте: некоторые, особенно долго сидящие под стражей, быстро и хорошо научились читать (обстановка камер не давала возможности заниматься и писанием).
«Ваше высокоблагородие, подарите молитвенничек!», «Ваше высокоблагородие, нельзя ли дать побольше книжек!» — раздавались радостные голоса арестантов, едва я входил в камеру. При этом ни разу во время моих посещений порядок нарушен не был, тем более что я взял за правило не принимать никаких жалоб и заявлений, не относящихся непосредственно к моей скромной роли библиотекаря и раздатчика Евангелий и молитвенников.
Боже мой! Какие это были радостные минуты для меня — видеть, как книжка вносит свет, мир и порядок (да, порядок — так как книги я доверял какому-либо одному солдату, и он обязан был потом собрать их для меня обратно от товарищей) в эту мрачную и забытую людьми среду несчастных и сбившихся с пути. Да простят мне эти и последующие подробности! Но я не могу умолчать о них: настолько они мне кажутся дорогими и важными для поднимаемого мною вопроса.
Не скрою, что была, как всегда, и обратная сторона медали: много книжек пропало при высылке арестантов, страницы некоторых из них в первое время рвались «на цыгарки», на книгах делались надписи. Но с этим можно было бороться, и угрозы, что я перестану давать книги при их дальнейшей порче, было вполне достаточно для того, чтобы прекратить безобразия. Кстати заметить, что та же угроза заставляла многих, считавшихся безнадежно буйными и строптивыми, держать себя безукоризненно. Между арестантами были такие, которые давали мне слово держать себя хорошо и держали его поразительно твердо: арестанты вообще дорожат доверием начальства и ни разу меня не обманули.
Труднее была, к сожалению, борьба с непониманием в среде караульных офицеров, отрицательное усердие которых доходило до того, что не раз находил я даже Евангелия и молитвенники отобранными от солдатиков. Приходилось бороться и с гг. офицерами. То же враждебное отношение к моему нововведению — библиотеке — привело к тому, что я вынужден был поставить шкаф с книгами, запертый на ключ, в караульное помещение нижних чинов, но требуя, чтобы он переходил караулу под сдачу и тем стеснял бы обязанности офицеров. Результатом было то, что в этом году, придя после долгого отсутствия в № 14, я нашел шкаф мой отпертым, замок из него вырезанным, а книги раскраденными (и ранее я замечал, что кто-то ходил в шкаф с подобранным ключом и брал книги для чтения). Вероятно, это совершили чины караула, пользуясь ночным временем и сном. Я не поднимал дела, зная, что при постоянной смене караулов невозможно найти виновного, и видя, что тут причиною та же темнота и невежество, с которыми нельзя бороться одними лишь строгими внешними мерами. Но, признаться, огорчила меня потеря моего дорогого детища — библиотеки, три года благополучно существовавшей, а главным образом тот факт, что солдаты, находящиеся на воле, обидели своего же брата — арестанта.
Не имея средств заводить новую библиотеку, написал я графу С. Д. Шереметеву, прося прислать мне для библиотеки книги от Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. По этому поводу завязалась переписка, и недавно мне предложено было Обществом взять на себя устройство библиотеки для арестантов имени Общества в № 14 (главной Виленской гауптвахте), что я с радостью и принял и на что последовало, насколько я знаю, разрешение военно- окружного начальства. Библиотеку эту я поставлю, конечно, на иных началах, оградив ее от описанной выше случайности.
Все это я изложил не для восхваления своих поступков, которые — по чистой совести — не считаю из ряда вон выходящими и которые с лихвой были награждены уже полученными мною результатами, а для того, чтобы показать, что возможно же нравственное воздействие на военных арестантов путем полезной, интересной книги, даже при единичной работе и общем несочувствии.
Этому нравственному воздействию в связи с улучшением материального быта в № 14 я приписываю то обстоятельство, что два года побеги арестантов не возобновлялись и поведение их, за редкими исключениями, было безукоризненным. Недавно обнаружилось приготовление к побегу, указывающее, значит, на то, что жизнь арестантов № 14 снова обставлена ненормально.
Но до чего забывают военных арестантов, указывает тот факт, что если бы не я, приносивший арестованным в день Пасхи куличи, яйца, сыр и христосовавшийся с христианами, то в течение ряда лет они оставались бы без разговен даже в такой великий день.
Я не хочу сказать, что начальствующие, соприкасающиеся с арестантами, — бессердечные, скверные люди. Нет! А объясняется это тем, что части войск относительно призрения арестантов надеются на комендантское управление; комендантское управление — на части войск; караульные офицеры — люди, находящиеся на гауптвахте лишь временно, сменяющиеся; а комендантское управление (оно же часто и управление уездного воинского начальника) завалено письменной работой. При таком, если позволено будет мне выразиться, «междуначалии» подчас совершенно забываются арестанты, лишенные возможности жаловаться, протестовать. Грустная обстановка, о которой много мог бы я рассказать поучительного! И не забуду, как, придя в этом году к арестантам в первый день Св. Пасхи, я услышал от караульного офицера: «А они с утра вас уже ждут. Спрашивали о вас». Бедняки твердо были уверены, что, забытые всеми, они не будут забыты мною! После христосованья и раздачи принесенного многие обращались ко мне с просьбами: «А книжечек, ваше высокоблагородие! Почитать бы! Нельзя ли молитвенник!» — Увы! От моей библиотеки к тому дню остались лишь жалкие останки! Исчезли и мои Евангелия, и молитвенники.
Описанное мною в отношении содержания военных арестантов на главных гауптвахтах найдется с различными вариациями всюду, кроме разве столиц, если, конечно, не делать шаблонного официального смотра с предупреждением о ревизии, а явиться неожиданно. О нравственном же состоянии арестантов положительно никто не думает. Смело можно сказать, что едва ли в Рос- сии найдется такая гауптвахта, которую посещал бы с целями собеседования и проповеди священник, из которой арестанты водились бы в церковь — на воскресные богослужения, для исповеди и причастия, в которой подумали бы о том, чтобы заронить в их души луч знания, слово любви и совета. А ведь это все — страшно подумать! — зеленая молодежь, из которой половина попала на гауптвахту из-за незначительных нарушений воинской дисциплины, совершенных в пьяном виде, из-за проступков, объясняющихся единственно молодостью, невежеством, непониманием требований военной службы. А такой молодежи ежегодно гибнет на общих гауптвахтах губернских и уездных городов России, в физическом и нравственном отношении, тысячи, если не десятки тысяч! Без разумной книги, без доброго, ободряющего слова, оторванный от своей родной семьи, солдат-юноша или солдат-ребенок (а большинство наших солдатиков, в сравнении с лицами образованных классов того же возраста, в сущности — наивные и хорошие дети) за маловажный иногда проступок, значения которого он не понимает, попадает из строя прямо за решетку, на ключ, в общую камеру, где уже сидят убийцы, воры, сознательные нарушители воинской дисциплины, люди иногда нравственно извращенные, безвозвратно погибшие. Пока производят дознание, следствие, пока окончится суд, проходят иногда месяцы в томительном бездействии, в зараженных стенах общей камеры, среди различных дурных влияний. Многие, долго просидев на гауптвахте, возвращаются в части и продолжают службу. Но разве могут они принести туда что-нибудь хорошее со современной гауптвахты?! Да, много надо силы воли, чтобы спастись, выйти из этой темницы с чистой душой, с незагрязненным воображением, с верой в Бога и с отсутствием ненависти к начальству, бедному юноше-солдату! Самое разделение арестантов на гауптвахтах по категориям, согласно устава о гарнизонной службе, на «осужденных» и «не осужденных» не выдерживает критики — если применить его не на словах, а на деле: между «не осужденными» и «осужденными» есть, конечно, и негодяи, потерявшие совесть, но есть и чистые личности; находятся убийцы, воры, насилователи, а рядом с ними — попавшие под суд за проступки, в сущности невинные, как я убедился в том, часто посещая арестантов. Давно надо изменить это деление, приняв во внимание и основание не случайный, чисто канцелярский признак «осуждения» или «не осуждения», а личность обвиняемого и сущность его преступления. Но кто входит на гауптвахтах в психологию личности военного арестанта? Кто при указанном выше «междуначалии» и отсутствии распоряжения свыше займется вопреки устава гарнизонной службы классификацией несчастных забытых арестантов на иных началах?! Вот тут-то на помощь и могли бы прийти — говорю это по опыту — разумная книга, доброе, сердечное слово, посещение офицерами военных гауптвахт с целью раздачи книг и собеседования. Теперь караульный офицер входит в камеры раза два, при экстренной надобности, на несколько минут и спешит оттуда выйти поскорее. Но иное было бы отношение к жизни арестантов на гауптвахте, если бы офицеру пришлось там бывать чаще, на долгое время и дышать ужасным воздухом общих камер. Наверное поднялись бы вопросы об улучшении быта, если бы господам офицерам при- шлось уносить на себе из камер паразитов, как уносил их я, или если бы им сделалось дурно от удушающего смрада «одиночек», как это было однажды со мною.
Сводя в одно сказанное мною, я позволяю себе думать:
1. Что быт военных арестантов главных гауптвахт, как имеющий непосредственную связь не только с бытом нашей армии, но и всего отечества (в том отношении, что многие арестанты возвращаются в части, а затем увольняются на родину), необходимо изменить в его основаниях, подвергнув его в то же время большему контролю и расширив, переделав в этом смысле параграфы устава гарнизонной службы.
2. Необходимо при каждой главной гауптвахте, самой незначительной, устроить библиотеку, снабдив ее не только уставами и книгами религиозного содержания, как это указано в уставе гарнизонной службы, но вообще книгами для чтения, рекомендуемыми Главным Штабом для всех солдатских библиотек. Самые библиотеки следует отдать под контроль начальников гарнизонов.
3. Необходимо обязать военных священников посещать арестантов с целью собеседований, раздачи Евангелий, молитвенников, а также водить арестантов в церковь на богослужения и для говенья.
4. Необходимо устраивать для арестованных чтения по особым выработанным программам.
5. Необходимо на гауптвахтах ввести обучение грамотности (чтению и письму).
Расходы по устройству и поддержке арестантских библиотек легко окупятся отчислением небольших сумм из средств тех частей, из которых присылаются на гауптвахты арестованные. А между офицерами — я знаю это — всегда найдутся порядочные, добрые люди, которые с охотой отдадут часть своих досугов на духовные нужды арестованных нижних чинов, лишь бы были почин и призыв свыше.
Если дезинфекцируют помещение, то не оставляют неочищенным ни одного угла, ни одной вещи: иначе дезинфекция теряет всякий смысл и помещение по-прежнему останется зараженным и опасным для тех, кто будет с ним соприкасаться. Поднятый по высочайшему повелению в предписании военного министра № 27930 вопрос о религиозно-нравственном воспитании войск смело можно сравнить с дезинфекцией, назвав «нравственной дезинфекцией» нашей армии. Но мера эта, позволяю себе заявить, не приведет к полным результатам, если главные гауптвахты, это больное место войск, останутся вне благотворного влияния и будут по-прежнему возвращать в армию людей или с надорванным от антисанитарного состояния гауптвахт здоровьем, или, что еще хуже, навсегда развращенных, пришибленных безнравственной атмосферой, там царящей.
И терять времени нельзя: пока я пишу эти строки, в душных казематах среди самых вредных условий и влияний гибнут тысячи хороших честных русских граждан, которых еще можно было бы спасти и сделать полезной государственной силой!!
Все, что сказано мною в настоящей памятной записке о состоянии гауптвахт, еще раз повторяю, не относится исключительно к одному только Виленскому округу, но вообще к большинству гауптвахт России: много странствуя по отечеству и нарочно посещая военных арестантов, я видел везде приблизительно одно и то же, за редкими исключениями (по части материального благосостояния). Самая же записка моя имеет единственной целью — обратить внимание на одну из сторон военного быта, которая, не имея своей литературы, до сих пор оставалась в тени лишь потому, что с нею мало еще знакомы.