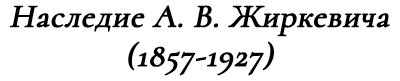Новые материалы об А. Н. Апухтине из архива А. В. Жиркевича. Часть II
Примечания: Н. Г. Жиркевич-Подлесских и Л. Н. Маричева

Опубликовано в журнале «Русская литература», № 3, 1999
Письма А. Н. Апухтина к А. В. Жиркевичу
Письма А. Н. Апухтина к А. В. Жиркевичу в настоящей публикации представлены в полном объёме впервые. В мемуарном очерке «Поэт милостию Божией» (Исторический вестник. 1906. №11) Жиркевич пересказывает или цитирует большую часть этих писем, но лишь в той степени, в какой они нужны ему по тексту, не соблюдая последовательности изложения и помещая отрывки из начала или конца письма; в некоторых случаях, по этическим соображениям, Жиркевич, цитируя письмо, заменяет имена упоминаемых лиц одной буквой (например, имя редактора «Русского вестника» Ф. Н. Берга и др.; об этом подробнее см. ниже в примечаниях к письмам). Представленные в полном объеме, письма сохраняют не только целостность документа, но и доверительность живого общения поэта с их адресатом.
В свою очередь очерк во многом дополняет и раскрывает содержание некоторых писем Апухтина, сообщая подробности событий, о которых в них идёт речь.
Многоуважаемый Александр Владимирович, я очень рад познакомиться с Ясинским и прошу Вас приехать с ним ко мне после вашего выздоровления. Застать меня можно всякое утро между часом и тремя.
Искренне Вам преданный
А. Апухтин
Инв. № 61385. Публикуется впервые.
№ 2
Получено в Вильне, 4 июля 1888 г.
1 июля
От души благодарю Вас, многоуважаемый Александр Владимирович, за добрые чувства, выраженные в Вашем письме, но признаюсь, что оно меня страшно расстроило. Вы упоминаете о каких-то темных слухах, ходящих обо мне, но не говорите, от кого Вы слышали, и что именно. Защищаться от неизвестных врагов в совершенно темной комнате немыслимо, а потому убедительно прошу Вас разъяснить мне все это… Я никогда не выдавал себя за образец добродетели, и моя молодость прошла очень бурно. Но совести моей много безрассудных поступков, но бесчестных нет, и если я кому-нибудь вредил в жизни, то только самому себе. [1]
Я переехал на новую квартиру и прошу Вас адресовать письма: Кирочная, 23. Я надеялся воспользоваться летним одиночеством, чтобы приняться за большой, давно обдуманный труд, но, право, руки опускаются ввидут такого общего недоброжелательства. Для чего и для кого буду я писать?
Дружески жму Вам руку и желаю всяческого счастия.
А. Апухтин
Инв. № 61386. Большая часть письма опубликована в «Историческом вестнике» (с. 477).
№ 3
1889
9 апреля
Милый Александр Владимирович.
Пожалуйста, не считайтесь со мной письмами: ведь Вы очень любите писать, а для меня это составляет иногда непреоборимую тягость. Пожалуйста, продолжайте сообщать мне и свои, и чужие замечания о моей поэме, мне это очень полезно. [1] Вы напрасно придаете ей автобиографическое значение. Раз самоубийство сделалось почти ежедневным явлением в нашей жизни, оно может служить предметом для поэзии, и я старался быть совершенно объективным, но, конечно, помимо моей воли, вероятно, кое-что из моих мыслей и чувств попало под перо. Кони, т.е. именно тот прокурор, который специально занимается самоубийством, нашел поэму не совсем верной в психологическом смысле. Вы очень метко указали на ее главный недостаток, т.е. на то, что самоубийство недостаточно мотивировано. Я сам это чувствовал, но изменить не мог. Если бы была какая-нибудь ясно-определенная причина, то совершенно утратился бы эпидемический характер болезни, на который я хотел обратить внимание. Затем Вы делаете мне насчет моего героя ряд вопросов, на которые я, по неимению точных сведений, ответить не могу. Верующим он, конечно, не мог быть, и в рукописи моей было несколько кощунственных строк (обыкновенно встречающихся в подобных письмах), которые я исключил по просьбе Стасюлевича. Впрочем, в словах о Провидении ирония кажется мне довольно ясной. Что касается до строки: «И уши длинные на плоских головах», она, может быть, некрасива, но необходима для указания на физическое отвращение к людям, как на решающий мотив после краткой борьбы. Это тяжёлое ощущение, посещающее и здоровых людей в минуты сильной хандры, непременно должно явиться у эпидемического самоубийцы. С нетерпением жду Вашей поэмы, [2] но решительно протестую против посвящения. [3] Для Вас это будет иметь последствием только то, что ее усиленно начнут бранить, а мне всякое печатное упоминание моего имени – даже публикация о продаже моих стихотворений – всегда неприятно. Прочитав эту фразу, Вы вправе спросить: зачем же я напечатал свою поэму? Отвечу прямо: по нелогичности действий и слабости характера. Три года тому назад я вообще начал печатать вследствие острого финансового кризиса, теперь у меня и этого оправдания нет. Когда я одумался, было уже поздно. Не знаю, какое впечатление сделано в литературном мире, но из среды моих знакомых и друзей на меня сыплются то самые преувеличенные похвалы, то самые ожесточенные нападки. Теперь я в приятном ожидании печатной ругани, но отношусь к этому довольно спокойно. «Следя примерно за собой», я заметил, что всякая враждебная выходка расстраивает мне нервы только на три дня, а потом это впечатление проходит, как проходит все на свете.
Прошу Вас передать мой почтительный привет Вашей супруге; обещания, ей данного я не забыл.
Искренне Вам преданный
А. Апухтин
Инв. № 61387. Большая часть письма процитирована на разных страницах «Исторического вестника» (с. 488 – 489, 498 – 499).
№ 4
Получено 18 мая 1890 г., Минск
От души благодарю Вас, многоуважаемый Александр Владимирович, за Вашу поэму, [1] которую я прочитал с большим вниманием и о которой выскажу свое мнение вполне искренно, как всегда. Главные ее недостатки – растянутость и многословие. Язык поэзии [2] должен быть сжат; стих поэта не должен:
«На воздухе теряться по-пустому.
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник».
Прочитав 200 страниц Ваших ямбов, между которыми можно набрать полсотни поэтических стихов, я невольно подумал: отчего все это не рассказано прозой? Вышло бы несколько прелестных очерков – более полных, так как Вы бы не были стеснены ни размером, ни рифмой. В технике стиха Вы сделали значительные успехи. Хотя есть и несколько непозволительных ударений (воскОвый, знамЕнье, жернОв), а также несколько слов, оскорбляющих чувство изящного, например, кальсоны (тут претит не вещь, а самое слово; через несколько строк «штанишки» не коробят нисколько), но вообще стих легкий и гладкий. Вывод мой такой: книгу печатать не следовало, но местами в ней попадается много наблюдательности, много теплоты чувства, а потому в таланте Вашем я не сомневаюсь. Надо только, чтобы он попал на свою дорогу. Во всяком случае, Ваша поэма гораздо выше поэмы Мережковского, [3] в которой нет ничего, кроме развязности.
В экземпляре, присланном для Великого князя, [4] страницы перепутаны, в таком виде посылать нельзя. (Странно, что в моем экземпляре этой путаницы нет.) Вообще мой совет – лучше не посылать, но если Вы непременно этого хотите, пришлите мне экземпляр исправный, и я его доставлю немедленно.
Преданный Вам
А. Апухтин
Инв. № 61388. Большая часть письма опубликована в «Историческом вестнике» (с. 491, 496).
№ 5
18 июня 1890 г.
Милый Александр Владимирович.
Из прилагаемой записки Великого князя Вы усмотрите, что я Ваше поручение исполнил. Он не высказывает никакого суждения о вашей книге, потому что в суете лагерной жизни вряд ли успел ее прочесть. Если я его встречу летом, непременно спрошу его мнение и сообщу Вам. Ваш оттиск и испорченный экземпляр хранятся у меня в целости, и я Вам их возвращу при свидании; посылать же их по почте решительно не умею, потому что отроду не отправлял никакой посылки.
Ваш
А. Апухтин
Инв. № 61389. Письмо публикуется впервые.
№ 6
22 августа 1890 г.
Милый Александр Владимирович,
Я все лето был не совсем здоров, выезжал очень мало и ни разу не встретился с Великим князем. Что касается до его записки, она мне решительно ни на что не нужна, и мне даже в голову не приходило, что Вы захотите переслать ее обратно. – Роман свой я бросил, потому что встретились кое-какие трудности, которых я не мог до сих пор преодолеть; [1] зато в два месяца я начал и кончил повесть, которою пока доволен. [2] – Во всех отношениях радуюсь вашей поездке в Крым. Бросьте совсем писать на это время и заботьтесь исключительно о своем здоровье, что нисколько не помешает Вам обдумывать свои будущие произведения. Поверьте, что эти уединенные думы вместе с живыми впечатлениями крымской природы гораздо полезнее для развития поэтического таланта, чем лихорадочный перевод чернил на белую бумагу. Чем меньше бумаги Вы изведете, тем лучше будет написанное Вами.
Дайте весточку о себе из Крыма. Искренно Вам преданный
А. Апухтин
Инв. № 61390. Письмо частично опубликовано в «Историческом вестнике» (с. 491–492).
Позвольте мне еще раз повторить Вам, милый Александр Владимирович, что если Вы не получаете от меня ответа на какое-нибудь письмо, это вовсе не значит, что я на Вас обиделся, а только доказывает, что судьба не наделила меня талантом к правильной переписке. Каким ветром понесло Вас в Ясную Поляну? [1] Разве были знакомы с графом Толстым? Мне как-то обидно за Вас, что Вы увеличили собой толпу любопытствующих пилигримов этой когда-то действительно ясной, но теперь совсем нелепой поляны. Лучший способ путешествия к Толстому следующий: взять любой том его сочинений и перечитать в десятый, или хоть в сотый раз – «Казаков», «Детство», «Войну и мир» и другие гениальные произведения, стоящие головой выше всего, написанного по-русски (кроме Пушкина, конечно). Вот чем Толстой сделал действительно добро людям, а не теми потугами ослабевшей мысли, заставляющими его или выкидывать всевозможные парадоксы, или повторять: дважды два четыре с таким важным видом, как будто он собственным умом дошел до этой новой и смелой истины. Без сомнения, он во многом прав, обличая лживость современной жизни, но разве мало лжи в его жизни и учении, или лучше сказать, учениях? Мне плакать хочется, когда я подумаю, сколько великих произведений мы лишены только благодаря тому, что все время поглощено развитием таких плодотворных и умных мыслей, что волков истреблять не следует, что каждая папироска выкуривается с целью затмить совесть, что спать с женой зазорно. Вообще вся история превращения величайшего из русских писателей в какого-то скоптического ересиарха теперь для меня совершенно ясна, и когда-нибудь при свидании мы поговорим об этом подробно. Если Вам не лень, опишите мне подробно Ваш визит, но ради всего, что для Вас дорого, не описывайте его в газетах. Вы, вероятно, увлеклись им на некоторое время. Главный его вред заключается именно в его гениальности: как-то трудно освоиться с мыслью, что художник, дававший нам какие-то поразительно правдивые образы, может сделаться таким лживым проповедником.
Искренно Вам преданный
А. Апухтин
Передайте мой поклон Вашей супруге.
Инв. № 61391. Письмо публикуется впервые, за исключением небольшого отрывка, процитированного Жиркевичем («Лучший способ путешествия к Толстому <…> написанного по-русски (кроме Пушкина, конечно)» (Исторический вестник. С. 484)).
Милый Александр Владимирович,
Вы пишете, что Берг был с Вами груб и… Затем Вы не договариваете. Прошу Вас написать мне подробно о Вашем свидании. Поверьте, что из этого ничего не выйдет, я Вас не выдам, но я должен все знать, потому что писал о Вас этому чучелу. Он должен считать за честь напечатать Ваш рассказ, который будет принят с радостью в любой журнал. [1]
Искренно Вам преданный
А. Апухтин
Инв. № 61392. Письмо опубликовано в «Историческом вестнике» (С. 495).
№ 9
Письмо от А. Н. Апухтина, 9 янв. 92 г.
Милый Александр Владимирович,
Увлеченный Вашим рассказом я также поступил «против убеждения» [1] и написал Бергу… Ну и что же из этого вышло? А потому я отныне никаких сношений с журналистами иметь не желаю и поручения Вашего исполнить не могу.
Я не понимаю одного: почему Вы так волнуетесь? Что за странное нетерпение увидеть свою дочь в каком-нибудь кабаке?! Главное – рукопись у Вас есть (и то, заметьте, благодаря мне!). Пишите бодро, обдуманно, не торопясь, пишите пока для себя. А напечатать мы это всегда успеем! Берите пример с меня: я уж третью повесть пишу, [2] а не напечатал еще ни одной, несмотря на все заигрывания этих господ!
Берг, вероятно, испугался, что Вы мне передадите ваш разговор, и тотчас после вашего отъезда написал мне очень любезное письмо, прося дать ему стихотворение для январской книжки. Конечно, я ему не ответил. Несмотря на это, он прислал мне январскую книжку, в которой напечатана очень благосклонная рецензия на мои стихи… [3] Как все это своевременно и мило!
Ваш А.
Инв. № 613393. Письмо опубликовано частично (и с некоторыми изменениями) в «Историческом вестнике» (с. 489, 495).
Извещаю Вас, многоуважаемый Александр Владимирович, что я с величайшим удовольствием готов прослушать Вашу повесть. [1] Образ моей жизни таков: я встаю в девять часов и сижу дома до шести, следовательно, приезжая ко мне часам к десяти и не особенно торопясь, Вы легко кончите чтение в два дня. Известите меня заранее о дне Вашего приезда. Живу я теперь на Миллионной, № 26.
Искренно Вам преданный
А. Апухтин.
Передайте мой горячий привет Вашему Амфитриону [2] и его супруге и привезите мне в Петербург их фотографии, которые мне давно обещаны. Здоровье мое все еще очень плохо, хотя в теплые дни я выезжаю.
Инв. № 61394. Публикуется впервые.
ЗАМЕТКА К МОИМ СНОШЕНИЯМ С ПОЭТОМ А. Н. АПУХТИНЫМ
Когда умер Апухтин, то с целью собрать материалы к его биографии, я ездил на место его родины в Орловскую губернию, Болховский уезд, где и познакомился с родными братьями Афиногеном (штатским) [1] и Владимиром (отставным армейцем). [2] Жили они на хуторе «Павлодар».
У Афиногена нашел я немного фамильных портретов и автографов Апухтина. Брат Афиногена Владимир рассказывал мне много некрасивого о непорядочности, пьянстве Афиногена. И со мною он поступил непорядочно, подарив мне автографы Алексея Николаевича, в надежде на мою протекцию, он, когда я отказал ему в ходатайствах, боясь скомпрометировать себя, отнял у меня подаренное. С братом его Владимиром у меня завязались более приятные отношения, и он кое-что сообщил мне о покойном (см. письма его ко мне [3] в конверте с письмами его, поэта). Завязал я еще переписку с родственницей поэта (кажется, вдовою его третьего брата) Варварой Андреевной Апухтиной, [4] жившей в г. Каменец-Подольске (на Новом плане, по Петербургской улице, в собственном доме).
В конечном результате всех этих отношений у меня сохранилось несколько вещей, бумаг, фотографий, автографов поэта, которые я и хранил у себя (вывез из Вильны в Симбирск). [5] Надо заметить, что почти все, относящееся к поэту Апухтину – из его переписки – погибло, и при жизни его, и после его смерти. Он сам вообще небрежно относился к своему личном архиву, уничтожая письма. Однако, как мне говорил друг его Вл<адимир> Ник<олаевич> Герард, [6] после его смерти чемодан с письмами к поэту Тургенева, Тютчева, принца Петра Ольденбургского [7] и др<угих> выдающихся лиц пропал бесследно. Не продал ли все это, или не уничтожил ли брат его Афиноген, которого он не любил, но который, тем не менее, узнав о смертельной болезни брата, в чаянии наследства, приехал в Петербург, где лежал умирающий? [8]
Мне хочется в настоящей памятке, в дополнение к моей переписке с поэтом и его родными, на всякий случай указать, где находятся вещи его, книги и бумаги, отданные мне после его смерти родными.
I) В 1922 г., будучи в Симбирске, я пожертвовал в художественный музей [9] (в доме б. Перси-Френч): [10] а) бювар поэта, при помощи которого он писал стихи и письма; б) деревянную подставку, с помощью которой он, при его болезненной толщине, читал книги; в) ленту от венка, положенного на его гроб Училищем правоведения, в котором он воспитывался; г) несколько редких фотографий – усадьбы в которой Ал<ексей> Ник<олаевич> родился его матери, любимой няни, его самого – в одиночку и в группах с друзьями (в том числе и фотографии юмористического-великосветского характера); д) несколько книг с надписями авторов, поднесших их поэту.
Примечание: все это где-то валяется в Симбирском художественном музее, и, вероятно, пропадет при равнодушии заведующего музеем художника Остроградского. [11] Вот почему, сделав ошибку с передачей апухтинских реликвий в несоответствующие руки, очень был бы обязан душеприказчикам моим по моему архиву, пожертвованному мною в Моск<овский> Толстовский музей, если они вытребуют эти предметы из Ульяновска и поместят их в такое учреждение, где им дадут надлежащее место. [12]
II) Для сведения Толстовского музея сообщаю, что в личном моем архиве, переданном Музею хранятся: а) собственноручная запись поэта А. Н. Апухтина, с указанием тех аристократических домов Петербурга, в которых он читал, в рукописи, свое произведение «Дневник графини Д.», с перечнем лиц, при этих чтениях присутствовавших; б) несколько автографов и бумаг покойного поэта; [13] в) редчайшая фотография его на смертном одре (все это можно найти в пожертвованных мною альбомах). [14]
III) После смерти Апухтина я в «Историческом вестнике» [15] (не помню, в каком году) напечатал мои воспоминания об Апухтине (с приложением его портрета) под заглавием «Поэт милостию Божией».
В эти воспоминания не вошли 1) сообщения о почившем брата его Владимира (в письмах ко мне); [16] 2) воспоминания об Апухтине близко знавшей его баронессы Екатерины Кирилловны Остен-Сакен, рожд. Зыбиной (см. ее письма ко мне); [17] 3) стихотворение (неизданное), посвященное Апухтиным Великому князю Константину Константиновичу [18] (присланное мне, по приказанию Великого князя, оно находится в одном из моих альбомов с автографами); 4) рассказы лиц, знавших Апухтина (см. мои дневники за разные годы). Я все собирался написать еще одну заметку об А. Н. Апухтине, но так и не успел этого исполнить.
Когда стали собирать по России деньги на памятник Апухтину, и мне был прислан подписной (по сбору) лист – в Вильну. Но виленская публика отнеслась равнодушно к памяти выдающегося поэта, не дав ни копейки. Все ограничилось моим взносом.
г. Москва
30 дек<абря> 1925 г.
А. Жиркевич.
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ПОЭТА АПУХТИНА [1] АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, ПОДАРЕННЫХ МНЕ ЕГО ГНУСНЫМ [2] БРАТОМ АФИНОГЕНОМ, ПОТОМ ОТОБРАННЫХ ИМ ЖЕ
7 мая. Выехал из Петерб<урга>. Провожали меня Коля и Шаховской. Ехал с Баранцевым. Спал много. Еда скверная.
8. среда. Переехал русскую границу. Испытал странное чувство удовольствия. В Вержблове букеты невиданных цветов. Прусская таможня снисходительна донельзя. Еда на немецких станциях невозможная.
9. Приехал в Берлин. Номер отчаянный. От усталости и духоты не мог спать. Обед за табль-д’отом в Hotel de Roma (?) прескверный. Прогулка в Тиргартен. Желание вернуться в Россию. В 7 часов выехал во Франкфурт. Якунчиков. Мучения и невозможность спать дорогой.
10. Во Франкфурте перешел на другую станцию. В 3 часа приехал в Баден. Обедал за табль-д’отом в Hotel de l’Europe, где остановился. Несколько лучше, чем в Берлине. Пошел в курзал, но играть не мог от усталости. Вернулся в отель и лег спать в 8 часов. До 10 часов не мог заснуть. Страшная тоска по России. Намерение завтра же ехать и непонятный страх. Воспоминания о братьях. Беспрестанно просыпался ночью, но спал часов 10.
11. Был у m-me Рихтер и у Тургенева, который так же мил, как и прежде. Сделался сед, как лунь. Обедал я в курзале и продулся: проиграл 500 р., что, вероятно совсем прекратит мою игру. Вечером очень обрадовался, встретив В. Зубова, который состоит при С. Лейхтенбергском и вместе с ним приехал на день из Карлсруэ.
12. Несколько мирюсь с жизнью баденской, хотя опять продулся. Надо решительно бросить. Обедал и провел вечер в курзале. Вечером Ольденбургские (Жорж и Конст<антин>) изъявили желание со мной познакомиться, что и было исполнено Зубовым. Познакомился также с С. Лейхтенбергским. С Жоржем Ольденбургским много говорили об Андрюше. Вообще они очень милы. Графиня Толстая обещала с завтрашнего дня постоянную партию в ералаш.
13. Утром писал письма. Обедал за табль’d’отом, потом, конечно отправился в курзал. В trente et quar. [3] Был в выигрыше более тысячи рублей, осталось 700. Долго беседовал с Жадовским и гр. Толстой. Познакомился с m-me Киреевой.
14. Утром был у меня доктор Гейлингенталь и слушал грудь и пр. Объявил, что легкие в порядке, но что вокруг сердца ожирение небольшое. Советы казенные: ходить, <нрзб> и Карлсбад. Все это я знал и без него. Потом так продулся, что чуть не должен был ехать, но уже не в Карлсбад, а восвояси. Был в театре – мерзость страшная. После несколько отыгрался.
15. Проиграл 700 руб., что имеет свою хорошую сторону, так как заставляет меня завтра покинуть Баден, где делается невыносимо скучно.
Приводим отрывки из писем Афиногена Николаевича и Владимира Николаевича Апухтиных, относящиеся к Аф. Н. Апухтину. Из письма Афиногена Николаевича публикуется лишь текст, который содержит биографические сведения об этом человеке.
Из письма Аф. Н. Апухтина:
12 апреля 1906 г.
1) Лет мне 56.
2) Вышел из 3-го класса кад<етского> кор<пуса> по болезни отца, с которым нужно было кому-нибудь жить. Служил судебным приставом при Болховском съезде мировых судей 9 лет, откуда вышел потому, что был выбран в Калуге в губ<ернское> Земск<ое> собр<ание> непременным членом крест<ьянского> присут<ствия>, но министром не был утвержден по причине мне неизвестной.
3) Семья очень большая: я, жена, дочь, сын с женою – у них 8 детей, сын с женой – у них двое детей, что 17 душ.
Теперь вопрос о моей судимости, на который очень трудно ответить, т. к. сама прокуратура на это не могла б ответить, а потому и ответ мой труден, т. к. трудно предположить, что можно сослать человека за то, что он борется с сильным. Помилование я получил частное, т. е не по манифесту, а отдельно. Впрочем, о моей судимости в моих документах ничего не видно <…>.
Инв. № 61398
Из письма В. Н. Апухтина:
Относительно Афиногена, могу Вам посоветовать ни под каким видом за него не ручаться, иначе можете поставить себя в крайне неловкое положение пред теми, кому будете его рекомендовать, у этого человека нет ничего святого. Он судился за кражу и подделку векселей и, кажется, шантаж <…>
Инв. № 61408
Из писем баронессы Е. К. Остен-Сакен [1] к А. В. Жиркевичу
№ 1
2 августа <1893> [2]
Иваньково
Мой милейший поэт!
Письмо Ваше, оплакивающее конец А. Н. Апухтина, я получила два дня после того, как в газетах прочитала печальную новость. Теперь в газетах описание похорон производит впечатление удручающее. Что за рифмоплет с балаганной фамилией Лялечкин? [3] Какое он право имел читать свои поганые стихи на могиле Апухтина?.. Стихи, долженствующие играть роль парафразы или подражания известных стихов Апухтина «Я ее победил, роковую любовь…»? [4] Самая речь Градковского [5] бесцветна, почти пошла. Правда, «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»! Я лично жалею Апухтина, как человека с огромным талантом, который благоволил ко мне и даже воспел меня в чудных стихах «Два голоса», [6] с ним связаны воспоминания многих «безумных ночей» моей светской молодости, многих бесед, веселых, поэтических, с оттенком той особенной задушевности, которая далека от настоящей искренности серьезной, но возникает между двумя людьми мгновенно и случайно в силу пошлости окружающих… Эта особенная задушевность в области искусства сближает, конечно, людей до известной степени… и вот вам моя близость к Апухтину, вот наши с ним отношения в течение многих лет. Я даже не решаюсь дать вам прямого ответа на вопрос: какой человек был Апухтин в моем мнении?.. Могу сказать вам одно: вся будничная жизнь его, вся ткань его интересов оставалась всегда для меня тайной; поэтому я не берусь судить. Кажется, никогда, ни о ком я не слыхала столько злоречивых мнений…
<…> Тютчева и Апухтина, как я их знала обоих, можно было, не стесняясь, пересадить в Афины на пир эпикурейцев… Даже странно и страшно подумать, что эти два человека родились во святом христианстве!.. Существенная разница между Тютчевым и Апухтиным та, что первый, увлекаясь политикой, бредил славянофильством; Апухтин же томился разгадкой вопросов мировых, философских. Итак, нет его, увы! И мало, слишком мало он по себе оставил творений. Я жалею о нем сердечно <…>
Я прекрасно помню, – еще эту зиму, когда я видела Апухтина, мы восхищались вашей жемчужиной «Против убеждения». [7] Алексей Николаевич повторял несколько раз с восторгом: это прелесть! прелесть! Возможно ли допустить, чтобы с его умом он мог претендовать за то, что вы не поехали к нему летом? Разве он не знает, не знал, насколько семейные интересы и службы могут влиять на поступки человека?.. Что касается до того, что он держал себя шутом в свете… это неправда. Наконец, с его крупным дарованием актера-комика невозможно было и требовать от него, чтобы в тесном кругу – он, в угоду наших просьб, не играл изредка, случайно, маленьких сцен из горбуновского [8] и собственного репертуара; ведь этому прошло много лет; и он был молод! Одна бессильная злоба, бездарность и зависть рады выместить «позднее мщение» [9] за ореол славы на голову мыслителя-поэта. Я полагаю, что господин Лялечкин мечтал бы, может быть, попасть в придворные шуты… да вряд ли удастся стать на место Апухтина: быть партнером Императрицы, [10] любимым собеседником даровитейших людей и таким жрецом чистого искусства – для всех <…>
Инв. № 63670
№ 2
(Получено 17 сентября 1893 г., Бобруйск)
ПАМЯТИ А. Н. АПУХТИНА [1]
Средь шума праздного, средь пестрой суеты,
Забыть ли милого усопшего поэта?
Свои сокровища из лона красоты
Так щедро сыпал он в тоску большого света!
Не раболепствовал, не мнил он угождать
Холодной прихоти тщеславных вожделений,
Он музу гордую, живую благодать
Хранил уклончиво от пошлости суждений…
Дыша порывисто, бывало, лишь войдет
Шажками быстрыми, болезненный и тучный,
Усталым взором он собранье обведет,
И, коль не по сердцу салон ему докучный,
Стиха не вымолвит… но… были вечера!
Лились потоками стихи, лучами света!
В них счастье прошлого!.. Вся юности пора
Стихом Апухтина до сердца разогрета.
Наветы зависти, бессильной клеветы
Отныне прах его тревожат бездыханный;
Но – ратью двинулись весны благоуханной
Послы могучие – поэзии цветы,
И сыплют дань ему земли обетованной.
Лучшим доказательством моего сочувствия к вашему замыслу, милый Александр Владимирович, служат эти стихи, как выражение моих чувств личных к покойному поэту. Пишите, конечно, все, что у вас есть на душе о нем, – это будет каждому из нас интересно и отрадно. <…>
Инв. № 63671
№ 3
<20 ноября 1906 г.>
Милейший Александр Владимирович,
Слов нет, чтобы достойно поблагодарить вас и за брошюру [1] и за письмо ваше! <…>
Я залпом прочитала статью и насладилась ею вполне. Невозможно более правдиво, более жизненно очертить фигуры Поэта и мечты его лениво-поэтического прозябанья. Я не имею ничего существенного в своих личных воспоминаниях для прибавления к такому очерку. Об Апухтине трудно писать…
Его выдающаяся, всем известная, половая эксцентричность обойдена вами, конечно, преднамеренно, что вполне понятно. Но весь лиризм его связан непосредственно с этой эксцентричностью! Двадцатилетним юношей он, говорят, был влюблен в Жедринскую [2] (если не ошибаюсь); но затем все портреты гвардейцев и других юношей, о которых вы упоминаете, описывая его кабинет, – все они были предметами его чудовищного, могучего лиризма!.. Как с этим фактом примириться?.. Так трудно разобраться в этой душе… Согласитесь с тем, что если бы Апухтин жил во времена Нерона, то он не был бы ни Сенекой, ни Луканом, ни даже эпикурейцем Люцием, – он был бы простым циником. Только родившись в христианстве, восприяв влияние Льва Толстого как художника, он как бы остановился, как бы призадумался над задачей жизни, над единственной, в сущности, ее задачей: над нашим бессмертием, вне времени, вне пространства и совершенно помимо текущего для нас, протекшего для него – сновидения, на земле. Я любила Апухтина, как и вы; но мне трудно облечь его образ в духовно-христианские ризы. <…>
Инв. № 63710
№ 4
27 ноября 1906 г., СПб.
<…> К вашим двум анекдотам апухтинской шутки прибавлю еще один, в том же характере (впрочем, ведь и Адвокатенька по моему адресу сказано). Когда мой брат, покойный Саша, [1] за что-то побранился с Апухтиным, очень слегка, то последний, наткнувшись на Сашу в толпе, на каком-то большом рауте, – с гордостью прошел мимо брата, заслонил лицо ладонью и сказал: «Pas qie je Sashe-ечка». По-французски «pas que je sache» можно в данном случае перевести: «знать не знаю, ведать – не ведаю».
Постараюсь вам быть полезна на поприще апухтинской нивы… Но ведь, к несчастью, я девушкой всего чаще и ближе наслаждалась Поэтом… Притом не курсисткой и не полу-девой, какие они все теперь, большею частью… Его участие в оргиях великокняжеских и в особенности в притоне даровитейшего и развратнейшего Николая гр. Адлерберга, ныне умершего, старшего сына министра Двора, [2] были вне района моей девичьей жизни; о них при мне даже избегали говорить. Что он играл роль шута – это несомненно, но шута с окраской трагизма, вроде «Triboulet» в драме Гюго «Le Roi s’amuse». [3] <…>
Инв. № 63711
ЗАМЕТКА ОБ АПУХТИНЕ [1]
При встречах с Апухтиным в обществе невозможно было предположить, что этот шутник-толстяк на самом деле убежденный, вдумчивый поэт. Он сам умышленно возбуждал смех вокруг себя, уверяя, например, что похож лицом на императрицу Екатерину II, особенно в профиль. При этом он становился в торжественную позу, изображая величавый жест Императрицы, со скипетром в руке, на памятнике. Лицо Апухтина мгновенно принимало строго декоративный вид, как-то вытягивалось и, действительно, в ту минуту напоминало лицо Императрицы. Вообще он мог быть первоклассным комиком. На спектаклях, в холостой компании, у графа Николая Александровича Адлерберга, [2] он, говорят, поразительно играл роль Фамусова, а также нецензурные роли, ingenus, в открытом платье, с короткими рукавчиками. Вообще на этих оргиях Адлерберга он был свой человек. По городу ходили слухи, что на этих оргиях происходили небывалые зрелища и сходки, расточалось много ума и таланта, но еще более цинизма. Это был замкнутый круг богатых людей, мужчин высоко даровитых и развратных. У них была своя литература, своя программа: складывались разнообразные стихотворения, куплеты, велась адская азартная игра и т. д.
В то время (в 70-х годах) в доме министра Двора, у графини Екатерины Николаевны Адлерберг, [3] из года в год не прекращались разнообразные приемы, особенно музыкальные вечера, с участием артистов Имп. Оперы и выдающихся любителей. Никогда А<лексей> Н<иколаевич> не бывал у графини, даже не был знаком с нею. Гр. Николай, вероятно, не считал возможным ввести Апухтина в салон своей матери. Как бы то ни было, впоследствии, когда слава Апухтина как поэта достигла апогея, он был представлен графине. При первом же посещении он выкинул следующее: подошел к хозяйке, перекрестился, сложил руки на груди, как перед иконой, и смиренно прошептал: «Позвольте приложиться». Графиня, разумеется, рассмеялась, и они стали с тех пор друзьями.
Апухтин не знал ни слова по-английски. Это не мешало ему изображать знаменитого трагика Олдриджа [4] в сцене убийства Дездемоны. Не раз в дружеском кругу у С. Я. Веригиной [5] он разыгрывал эту сцену при мне. Длинный, бледный юноша, князь Баратов, закутавшись в простыню и вытянувшись на диване, должен был изображать спящую Дездемону. Апухтин, в тюрбане Мавра, в шали, задрапированный мантией, подкрадывался к жертве, начинал шипеть и рычать целый монолог Отелло. При полном незнании языка, он издавал какие-то неопределенные английские звуки, до того похожие на текст Шекспира, что все присутствующие помирали со смеху. Особенно ценила это моя приятельница англичанка – miss Kirton, которая, не различая слов, слышала все-таки Шекспира. При последнем ударе ножа (взятого тут же, со стола) в грудь Дездемоны Апухтина глаза наливались кровью, он забывался в исступлении настоящего Трагика…
Поэт очень любил музыку; очень комично изображал Тамберлика, [6] брал знаменитое грудное ut, называя его не грудным, ut de poitrine, а потолочным – «ut de plafond». Высшие сферы музыки были ему мало доступны; его чаровала цыганщина. Известная песня «Я вновь пред тобою стою очарован» навеяла его вдохновению новые слова, начинавшиеся так:
«О пой, моя милая, пой не смолкая
Любимую песню мою!..»
Инв. № 63713
№ 6
14 янв<аря> 1907 г.
<…>Чародейка-певица А. В. Панаева (ныне Карцова), [1] и как артистка, и как лучезарная красавица, поработившая себе весь П-г, певала для своего друга-поэта его стихи, положенные на музыку Чайковским и С. А. Зыбиной; [2] последняя часто ей аккомпанировала. Вдохновенную музыкальную фразу Зыбиной, на слова Апухтина:
«О, сбрось последний снег!.. Растай, растай
И я тогда зальюсь такою песнью нежной,
Какой не ведал соловей!» [3]
– Панаева пела как никто. Апухтин таял от восторга, целовал руки исполнительницам, впадал сам в лирической настроение и начинал декламировать стихи – и свои, и Пушкина, и Тютчева…
Вечера у С. Я. Веригиной, где Апухтин также был другом и постоянным гостем, затягивались всегда до глубокой ночи, а к весне до утренней зари… Тут царил талант, некогда вскормленный, взлелеянный М. И. Глинкой, талант самобытный и оригинальный – Софья Александровна Зыбина. Она играла и пела, одна и с дочерью, обыкновенно целую программу своих сочинений, имевших тогда же, в 70-х годах, успех необычайный в свете и при Дворе. Мать и дочь, обе нервные, мистические натуры, в игре и дуэте, как бы сливались в один организм, в одну волю, в одно вдохновение, – и производили на многих потрясающее впечатление.
В одну из таких белых, одухотворенных ночей Апухтин, заслушавшись Зыбиных, экспромтом написал стихотворение «Два голоса», посвященное им и впоследствии, без малейшей поправки, вошедшее в его Сборник. [4]
Что же еще сказать? Это был поэт самодовлеющий, не только вследствие болезненной тучной лени, – но и, главным образом, потому, что – успех, похвала, сочувствие, даже слава были для него пустыми словами; он был так же глубоко уверен в себе самом, как уверен был в своих идеалах поэтических, относясь к современным ему поэтам, кроме Тютчева и Фета, с полным равнодушием. Философия в стихах претила ему особенно. Он обожал А. Шенье. [5]
Инв. № 63714
№ 7
12 марта 1907 г.
На этот раз, любезный Александр Владимирович, посылаю вам ценный вклад в биографию Поэта, записку его к Мендельсоничке [1] с милым четверостишием. <…>
Записка к Софье Яковлевне Веригиной (рожд. графини Булгари) относится к концу 60-х годов. Жедринского, [2] о котором в ней упоминается, я хорошо знала; он, кажется, тоже был своеобразно обожаем Апухтиным и был сам очень хороший музыкант. Может быть, вы помните в моем большом альбоме карикатуру Апухтина, на цыпочках достающего верхнее До, которое он называл l’ut de plafond; [3] тут же Жедринский, аккомпанирующий у фортепиано, а сверху написано рукой Апухтина «Ночи безумные». [4] Этим сообщением приходится закончить мой ничтожный вклад в ваш серьезный труд. <…>
ЗАПИСКА К С. Я. ВЕРИГИНОЙ [5]
Многообожаемая С. Я.
У меня кашель и сильная одышка, и хотя сегодняшний концерт для меня «Искушение Св. Антония», я не решаюсь ехать, боясь окончательно разболеться. Не желая, чтобы данный Вами билет пропадал даром, я передал его Жедринскому и надеюсь, что Вы высочайше утвердите эту передачу.
Он любит музыку сердечно,
В нем много вкуса и чутья,
Он худощавее, конечно,
Но так же предан вам, как я.
(NB. Надо сказать, что Жедринский был худ, как спичка. – Е. О.-С.).
Не нахожу слов, чтобы благодарить Вас за Ваши милые строки по поводу дня моего рождения. Это совсем не великий для меня день, и мирит меня с ним только то, что Вы его помните.
Ваш не надолго… т.е. до могилы.
А. Апухтин.
Инв. № 63715
Письмо С. П. Кашнева [1] к А. В. Жиркевичу
11 сентября 93 г.
Троки
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Возвратившись из отпуска, я от предшественника своего принял такую массу дела, что все это время пришлось разъезжать по уезду, и я положительно не имел свободной минуты ответить Вам. Теперь сообщаю Вам то, что известно о последних днях жизни Алексея Николаевича.
По приезде моем в Петербург я узнал, что он безнадежно болен, и в первый же день был у него с одним из товарищей моих по полку. Впечатление он произвел на меня удручающее, тем более что он сознавал свое положение и до последних минут был в полной памяти, при этом никого из близких, т. к. летом, очевидно, все разъехались, предоставленные попечениям одного своего лакея. Нашему посещению он был очень рад, все время удерживал, когда мы собирались уходить, так что мы пробыли почти целый день у него. Говорил, между прочим, о Вас, что Вы обещали приехать в Петербург и прочесть ему свою повесть, просил передать Вам, что он Вас ждал и для Вас отложил поездку на дачу Шереметевых, что обещанная Вами повесть его очень интересовала. [2] В особенности после прочитанной им повести Вашей «Против убеждения», [3] он говорил, что это прелестная вещь, как по идее, так и по форме, и что лично он Вам давал совет не забрасывать прозы, в которой Вы доказали несомненную свою талантливость, и что в этом направлении он от Вас многого ожидает. Сам он написал три повести, [4] которые последовательно должны были появиться в Русском вестнике, начиная с Октябрьской книжки. Одну из этих повестей он читал даже в присутствии Государя [5] у принца Ольденбургского, [6] под названием «Архив графини Д.». Так как я собственно жил на даче, то был у него всего три раза. Последний раз 11 августа перед отъездом видел его и простился уже с живым трупом. У него после водянки началась гангрена, он это знал и даже предупреждал меня, что это заразительно. На прощанье он мне подарил 3-е издание своих стихотворений, [7] с надписью «от старого приятеля Апухтина», дрожащей рукой карандашом. В Вильне просил передать поклон Вам и Николаеву, что я и исполняю.
Если когда-нибудь соберусь, то напишу о нем свои воспоминания, как о певце несчастной любви. Затем крепко жму Вашу руку.
Готовый к услугам
Сергей Кашнев.
Инв. № 62690. Письмо С. П. Кашнева в большей своей части процитировано Жиркевичем в «Историческом вестнике» (с. 502–503).
Письма Г. П. Карцова [1] к А. В. Жиркевичу
№1
Милостивый государь Александр Владимирович,
С удовольствием исполняю просьбу Вашу, ибо всегда рад встретить человека, подобно мне, симпатизирующего нашему симпатичному поэту Алексею Николаевичу. Жаль мне только, что утешительного относительно его здоровья могу сообщить Вам мало: у него развилась водянка, происходящая от ожирения сердца; только строгое молочное лечение кое-как останавливает развитие страшного недуга; но так как вечно пить только одно молоко нельзя, то из этого следует, что кончину Апухтина отдаляют, но спасти его нельзя. В настоящее время ноги выше колен уже наполнены водой, и она появилась уже в желудке. Конечно, больной не сознает своего положения. Думаю, что до октября он не протянет.
Все эти сведения даю Вам со слов лиц, видающих его почти ежедневно и повторяющих сказанное докторами, его пользующими. Сам я не видел Ал<ексея> Ник<олаевича> с конца марта, ибо пролежал шесть недель в постели, перенеся сложное воспаление брюшины.
Если Вам будет угодно и впредь знать о состоянии Ал<ексея> Ник<олаевича>, то буду всегда рад дать Вам знать о нем, особливо если состояние его улучшится.
Всегда готовый к услугам Ваш покорный слуга
Георгий Карцов.
С. Петербург
Сергиевская 71 кв. 1
Георг<ию> Павл<овичу> К<арцову>
4-го мая 1893 г.
Инв. № 62680
№ 2
19-го июня 1893 г.
дер. Байнево
Новгородск<ой> губ<ернии>
Валдайского уезда
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Письмо Ваше от 7-го июня я получил только на днях, ибо из Петер<бурга> оно было направлено в Царское, куда меня перевезли для восстановления сил после тяжкой болезни, из Царского, где письмо Ваше меня не застало уже, оно послано было в деревню, где меня догнало.
Ал<ексея> Николаевича я видел проездом из Царского в деревню, остановившись у него на два дня. Ничего утешительного сказать нельзя. Болезнь идет своим порядком, удерживаемая стараниями врачей от быстрого хода. Чувствует себя больной довольно хорошо; в последнее время вода не прибывает, дойдя до половины живота, но и не убывает, к несчастию. Его навещают его городские друзья; он сам нигде не бывает, даже в клубе, и только в очень хорошие дни ездит в коляске на острова. Он, безусловно, не сознает своего положения, хотя часто говорит о полной уверенности в невозможности избавиться от болезни. Настроение его духа, конечно, очень мрачно, и мне его от души жаль. Я рад, что, по-видимому, умирать ему придется не в скором будущем, т. е. не летом, когда почти никого ему близких нет в городе. Не думаю, чтобы он пережил будущую зиму. Я простился с ним на три месяца и увижу его, даст Бог, в конце августа, когда проездом через Петерб<ург> поеду за границу; тогда могу опять сообщить Вам как его найду.
На всякий случай даю Вам мой адрес: по Никол<аевской> жел<езной> дор<оге>, станция Угловка, деревня Байнево.
Примите уверения в совершенном почтении и преданности.
Г. Карцов.
Инв. № 62681
№ 3
1 декабря 1893 г.
Ницца
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Простите за невольное запаздывание ответом. Письмо Ваше от 30-го окт<ября> я получил только вчера; за моим отсутствием из России оно попало к брату моему в Царское Село, а он только теперь надумал переслать его мне. Как видите – я не заставляю себя ждать; все, что только касается милого Апухтина, мне так дорого, все, кто им и памятью о нем интересуется, мне так симпатичны, что я всегда с восторгом исполняю все от меня зависящее, чтобы удовлетворить их желания.
Весною я сам очень серьезно болел, и доктора отправили меня в деревню на все лето, а затем на осень – за границу. Вот почему только последние месяцы из жизни А<лексея> Н<иколаевича> я не был при нем. Летом он писал мне мало; я знал, что дело подвигается к развязке; жена моя, побывав у него в июле, привезла мне тревожные вести; 8-го августа приехал я в Петерб<ург> к нему и застал его в следующем положении: голова и плечи как у ребенка, впалые щеки, земляной цвет лица («на лицо земля пала» – по Толстому), обросший седой бородой и усами; остальное тело, переполненное водой, было ужасающих размеров; ноги до колен представляли сплошную рану, из которой вода сочилась безостановочно; меняли до 25 простынь в сутки; он день и ночь сидел в кресле почти не двигаясь; голова оставалась свежа почти до последней минуты; агония, без сознания, длилась от 11-ти утра до 4 1/2 дня, когда он скончался. Всю последнюю неделю он был в спячке, изредка просыпался и тогда немедленно, не говоря ни про что другое, начинал декламировать Пушкина, и только одного Пушкина; тут можно было убедиться, какой гениальною памятью обладал этот человек! В это время он относился страшно апатично ко всему окружающему. Физически он страдал мало, ибо тело его умерло раньше головы. Я делал все возможное, чтобы облегчить ему нравственные страдания, которые должны были быть ужасны, но он ничего не высказывал; он знал отлично, что умирает, и при этом был кроток и бесконечно жалок. На все мои предложения удобнее устроить его, он повторял мне одно: «Мне ровно ничего не надо; если ты не можешь дать мне здоровья, то больше не беспокойся… ни доктора, ни уход за мною не облегчат мне страданий, мне ничего не надо…» Накануне смерти он пожелал видеть священника, сам сделал все распоряжения для принятия его, приказал одеть себя во все чистое и исповедовался и причащался, сняв халат, в одном чистом белье. Исповедовал его молодой священник-магистр, которого после исповеди, длившейся 25 минут, спросили: «Как вы находите, батюшка, была ли исповедь искренней?» На что священник ответил: «Я желал бы, чтобы всякий умирающий отходил из жизни так, после такой исповеди, как этот господин…» 14-го августа доктора сказали мне, что он может протянуть еще долго, недели три; мне надо было возвратиться в деревню; я вызвал его брата, учредил постоянное дежурство при нем двух лакеев и фельдшера и уехал 15-го, думая вернуться к нему около 30-го. 18 авг<уста> в деревне я получил телеграмму от его брата, [1] что 17-го он скончался. Благодаря некоторым близким к покойному, его похоронили прилично, да, только прилично. Теперь дело любивших его – стараться, чтобы память об нем жила среди общества. Я уже составил план об этом, который, конечно, сообщу Вам.
Отвечаю теперь на Ваши вопросы. Фотография с покойного снята фотографом Шапиро; маска находится у меня. Бумаги его и его переписка опечатаны судебным приставом и сданы на хранение его брату, с которым я теперь в переписке относительно будущего издания. Буду настаивать, чтобы оно появилось исключительно для постановки памятника на могиле, иначе эта дорогая могила может быть забыта. [2]
Хотелось бы еще о многом переговорить с Вами. 7-го или 8-го декабря, ровно через неделю, я буду проезжать мимо Вильны из Варшавы в Петербург, возвращаясь из-за границы; если Вы пожелаете, найдите меня на вокзале или в вагоне и проезжайте со мной станцию, другую, тогда передам Вам многое на словах. Об аукционе не знаю никаких подробностей, он происходил по моем отъезде из Петербурга. Очень вероятно, что он происходил так, как бы не было желательно.
Всегда рад буду дать Вам еще нужные для Вас сведения. Пришло время, когда я могу гордиться тем, что усердно собирал 15 лет подряд все, что когда-либо написал А<лексей> Н<иколаевич>. Ко мне теперь должны обращаться ценившие талант покойного, чтобы вполне ознакомится с «плодами его фантазии ленивой», как он сам выразился о себе в одном стихотворении. [3]
Надеюсь скоро повидаться в Вильне. До свидания. Всегда готовый к услугам
Г. Карцов.
Мой новый адрес в Петербурге:
Кирочная 17, кв. 7. Георг<ию> Павл<овичу> Карцову.
Инв. №62682
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Письмо Ваше меня несказанно тронуло и порадовало. Приятно сознавать, что есть чуткие люди, чуждые всякого расчета, искренно и вполне правдиво относящиеся к памяти и таланту покойного Алексея Николаевича. Напрасно Вы видите в действиях моих заслугу русской литературе. Мной руководило, при собирании трудов покойного, одно убеждение, что поэт он незаурядный, что произведения его должны доставлять массу наслаждения таким же чутким людям, как Вы, и что рано или поздно сознают это все, не руководящиеся тенденциозностью в искусстве. Зло это погубило многих талантливых людей 60-х и 70-х годов, и главная заслуга Ал<ексея> Ник<олаевича> именно состоит в том, что он вовремя выкарабкался из-под опеки Тургенева, Некрасова и им подобных. Они-то были слишком талантливы, чтобы писательское мастерство затмилось косной тенденциозностью. А сколько новичков в искусстве остались милы своими произведениями известной среды, не дав ничего удовлетворяющего поклонников чистого искусства без подмеси!
Благодарю за любезное поздравление и за посещение меня, а тем более дорогой мне могилы. Я старался узнать, где Вы остановились, от Вл<адимира> Ник<олаевича> Герарда, [1] но и он не мог мне дать Вашего адреса. Я страшно занят службой, и, к стыду моему, не успел еще двинуть достаточно дело о постановке памятника. Я пытался обращаться к кое-кому, от которых надеялся получить помощь в этом деле в смысле организации сбора через известных мне лиц, но встретил такое равнодушие и забывчивость к тому, от которого люди эти получали в былое время столько наслаждения, что это меня сильно обескуражило. Даже родственники сбросили с себя обузу эту и прислали мне ассигнованные ими 800 руб. на памятник, предлагая мне заняться этим вопросом. Летом надеюсь быть посвободнее, подготовлю почву, переговорю с Высшими лицами, если и не составится правильно организованного комитета, рискну лично собрать деньги на памятник. Все это очень грустно! Слава Богу, что искреннее почитание таланта Ал<ексея> Ник<олаевича> Вел<иким> князем [2] помогло издать его произведения так, как они того достойны. Один Влад<имир> Ник<олаевич> Герард потрудился за всех и этим показал, что до конца остался верным товарищем покойного.
Спасибо еще раз за Ваше милое, доброе и сердечное письмо. Если будет что-либо новое, касающееся памяти Алексея Николаевича, – конечно, буду Вас сообщать.
Глубоко уважающий Вас
Г. Карцов.
Инв. № 62684
№ 5
23 апр<еля> <18>96 г.
СПб.
Многоуважаемый Александр Владимирович,
На письмо Ваше от 18 апреля не мог ответить тотчас, т. к. письмо пришло в бытность мою на охоте в деревне, откуда я приехал 21-го.
Мои люди говорили мне, что был у меня офицер, не оставлял карточки, но я не мог догадаться, что это были Вы. Я так страшно занят службой, что дома бываю от 7-ми до 10 час<ов> вечера и от 3-х утра и до 10-ти утра.
Относительно могилы милого Ал<ексея> Ник<олаевича> скажу, что знаю. Родственники выдали на устройство могилы из тех денег, которые оставил им Ал<ексей> Ник<олаевич> (кажется, около 10000 руб.), и из выручек от изданий – одну тысячу, из коих я употребил 200 р. на покупку места рядом с местом, где лежит покойный, именно чтоб, ввиду будущей постановки достойного его памяти памятника, можно было поставить что-либо хорошее. Что же касается до самого памятника, то родственники пожелали открыть подписку между почитателями покойного, дабы собрать сумму, придав ее к оставшимся от их пожертвования 800 руб. Дело открытия этой подписки не двигается, т. к. кроме меня не находится никого, кто бы принял на себя инициативу на это дело, а я один начать это дело считаю неудобным. К некоторым, всегда относившимся доброжелательно к А<лексею> Н<иколаевичу>, я обращался за помощью, но ничего из этого не вышло. Сам я, просто за неимением времени, не в силах действовать энергично, отчего, в сущности, главная ответственность все-таки падает на меня.
В настоящее время у меня готов отличный проект памятника, заказанный мною одному архитектору; смета тысячи на три. Так как летом Петербург будет пуст, то надо будет отложить это дело до осени, когда я во что бы то ни стало примусь яро за свой долг, тем более что к этому времени, надеюсь, буду иметь более свободного времени. Страшно рад, что Вы предлагаете с своей стороны помочь делу, и найдя еще кого-либо, третье лицо, мы можем от лица нас троих официально начать действовать, испросив разрешение правительства на сбор пожертвований. Думаю привлечь к этому доброму делу милейшую баронессу Остен-Сакен. [1]
Относительно библиотеки покойного ничего не могу Вам сказать, т. к. все его имущество после смерти попало в руки его брата [2] и было продано по его распоряжению с аукциона. Он даже не предупредил друзей покойного об этом, и многие пеняли, что не могли получить путем покупки какой-либо, хотя незначительной вещицы на память о поэте. До осени напишу Вам, и мы подробно сговоримся, как действовать.
Прошу принять уверение моего глубокого уважения.
Г. Карцов.
Адрес – Фонтанка 17 кв. 8.
Инв. №62685
№ 6
(14 ноября 96 г. Послан Карцову ответ о согласии моем. А. Жиркевич)
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Я обещал Вам сообщить осенью о положении дела по постановке памятника Ал<ексею> Ник<олаевичу> Апухтину. Бар<онесса> Е. К. Остен-Сакен согласилась подать в Министерство вн<утренних> дел совместно со мною и Вами, если на то последует Ваше согласие, прошение о разрешении нам открыть подписку в России. Взносы проектируется направлять в Правоведскую кассу, которая со своей стороны не отказывается помочь нам, и 5-го декабря, в день Правоведского праздника, вопрос этот будет поднят вместе с подпиской в среде бывших и настоящих правоведов. Помимо того, Екатерина Кирилловна уже начала собирать деньги среди своих знакомых; мы полагаем, что Вы соберете кое-что в Вильне, Н. А. Жедринский [1] – в Москве, а баронесса со мною – в Петербурге. Вот мой план, который прошу утвердить и прислать мне Ваше разрешение на подачу заявления в Министерство, каковое, нами подписанное, тотчас отправлю Вам, и по возвращении его подам Министру. Тем временем, я окончательно условлюсь с Правоведской кассой и объявлю о подписке во всех газетах.
Думаю, что, действуя таким образом, мы соберем к марту несколько тысяч и будем в состоянии поставить памятник, достойный таланта Ал<ексея> Ник<олаевича>, к 20-му мая, т. е. ко дню его именин.
Жду ответа, оставаясь глубоко уважающим Вас
Г. Карцов.
10/XI-96
Фонтанка, 17
Инв. № 62686
№ 7
Многоуважаемый Александр Владимирович,
При сем прилагаю Вам три экземпляра подписных листов для сбора пожертвований на памятник Алексею Николаевичу; как видите, только теперь удалось мне преодолеть все формальности и получить официальное разрешение; Вы, вероятно, получили уже номер «Нового времени», где было оповещение о полученном нами разрешении. Подписные листы за №№1, 2, 3, 4 и 5 получила баронесса Ек<атерина> Кирил<ловна>, Вам посылаю №№ 6, 7 и 8 и могу при надобности дослать еще два или три; №9 посылаю в Каменец-Подольск в семью Апухтиных, № 10 – в Москву, где будет собирать от моего имени Жедринский, а 11, 12, 13 и 14 остаются на мою долю.
Благоволите записывать адрес, имя, отчество, фамилию жертвователя, а также, когда пожертвование поступило, это необходимо для оповещения впоследствии всех участников о произведенных расходах и для приглашения их на освящение памятника. Надеюсь, что теперь мне удастся за летний строительный сезон поставить камень и ограду, а бюст закажу теперь же, так что к осени он также будет готов. Рассчитываю, что для моего проекта более 3000 р. не понадобится, а эту сумму надеемся набрать сообща.
Покорнейше прошу чрез некоторое время сообщить мне о результатах подписки.
С совершенным почтением готовый к услугам
Г. Карцов.
Фонтанка 17, кв. 8 С. П. Б., 4 марта 1897 г.
Инв. № 62687
№ 8
20 янв<аря> <1>905 г.
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Недавно возвратясь из командировки на Кавказ, я застал дома Ваше любезное письмо. Прежде всего позвольте принести извинение за молчание мое на два письма, давно мною полученных, на которые я не отвечал по той причине, что читал их много времени спустя после их отправки мне. Помню, что раз был за границей несколько месяцев, и ответ мой явился бы, что называется, «после ужина горчица»; на второе, помнится, по поводу сбора на памятник Алексея Николаевича, я Вам ответил, окончив все дело по устройству могилы. На просьбу Вашу сообщаю, что у Ал<ексея> Ник<олаевича> остались в живых два брата – Афиноген Ник<олаевич> и Владимир Ник<олаевич>. Первый, возвращенный из ссылки, очень слабый тип, кажется, теперь живущий в роли попрошайки. Он явился ко мне два года тому назад, просил денег, никогда до этого со мною не встречаясь, и где он, что с ним – понятия не имею. Второй – Владимир, бывший в Петерб<урге> во время кончины дорогого Алекс<ея> Ник<олаевича>, тогда забрал все его имущество, передал все права литературные, полученные наследниками по закону, в ведение прис<яжного> поверенного Гарфа, [1] передал нам, нескольким друзьям покойного, некоторые его безделушки, вроде пепельницы, палки, мундштука и т. п., продал все ценное на толкучке и маклакам, так что никто из близких Апухтина этого не знал, и скрылся. Теперь он, кажется, живет в Калужской губ., где – не знаю, адреса не имею. Как видите, никакого музея устроить нельзя. Если я, покойный Герард, Жедринский и друг<ие> не имеем почти ничего от Апухтина, то что же Вы соберете? [2] Один знакомый и почитатель Ал<ексея> Ник<олаевича> искал по всему Петербургу его письменный стол через 1/2 года после смерти Ал<ексея> Ник<олаевича> и уже не мог его найти. Конечно, разрешаю воспользоваться сведениями о последних минутах Ал<ексея> Ник<олаевича>, если Вы знаете о них из моего письма или от г. Мусмяна, случайно бывшего при умирающем и привозившего к нему священника. Очевидно, переписка Апухтина была взята из квартиры его братом Владимиром, но что с нею сделали – не знаю. Вероятно, пропала бесследно! Почетн<ый> попечитель Училища правоведения – Принц Петр Александрович. [3] Слухи ходят, что наследники, издав дешевое издание и продав кому-то право на дальнейшие издания, получили около 30.000 руб. Вот все, что знаю. Я рад, что лично сделал, что мог, для покойного после его смерти, собрав на памятник и поставив лучший на всем кладбище Лавры. Хоть могила не в запустении! Вам спасибо за память о нем и за доброе желание напомнить нашему гнилому, бездушному, беспринципному обществу о талантливых людях прошлого.
Искренне преданный Вам
Георгий Карцов.
Инв. № 62680
№ 9
Глубокоуважаемый Александр Владимирович,
Решительно не понимаю, отчего Вы предполагаете, что я могу быть на Вас в претензиях? Хоть мало зная Вас, я вспоминаю, каким Вы были горячим поклонником таланта Алексея Николаевича, и это одно должно было возбудить в нас взаимную симпатию. Но Ваша симпатия к покойному была тем более трогательна, что, сравнительно, Вы встречались с ним редко, не знали его как человека, не пользовались его чарами как собеседника, приятеля, в обыденной обстановке повседневной жизни; могли судить о его уме, остроумии, начитанности, образованности, познаниях, доброте души, взглядах на жизнь, людские страсти и пороки и т. д. только по его произведениям.
Отвечаю на вопросы.
Никакого духовного завещания А<лексей> Н<иколаевич> не составлял, ибо до странности боялся смерти и даже помыслов о ней, когда был здоров. Когда же заболел, то очень скоро впал в апатию ко всему его окружающему, перестал сразу бояться страшившего его прежде небытия, а потому, буквально, не делал никаких распоряжений. Только жену мою [1] он просих на панихидах стать на указанном им месте в комнате: «Мне хочется и теперь знать, – говорил он за неделю до смерти, – где Вы будете стоять тут, когда я уже не буду в состоянии видеть Вас». И, представьте, судьба посмеялась над нами и над его последней просьбой. Мы были далеко в деревне, когда он умер, и не могли поспеть на похороны. По случаю того, что завещания не было, все после него было отдано законным наследникам. Зная его отношение к братьям и семье, я уверен, что если бы он не впал в апатию, то распорядился бы оставить все своей тетке родной, сестре его матери и вместе с тем жене его любимого покойного брата Андрея Николаевича [2] – Варваре Андреевне Апухтиной, рожденной Желябужской. [3] Как брата Андрея, так Варвару Андреевну и ее детей (сын теперь взрослый, не знаю, что и кто он, и дочь – также про нее ничего не знаю). Варвара Анд<реевна> жила очень долго, а может быть, и теперь живет в Каменец-Подольске. От нее я получил благодарств<енное> письмо и 300 р. для постановки памятника, кажется в 1895 г., и после того ничего о ней не знаю. Если она жива и Вы ее найдете перепиской в Каменце, то от нее можете многое узнать о покойном и о его остальных братьях. От нее же узнаете, в каком магазине склад его изданий и кому продано ими (родственниками и наследниками) право издания.
Где происходил аукцион вещей и официально ли – не знаю. Знаю, что в Петербурге, тотчас после смерти, кажется, даже на самой квартире, где он умер, на Миллионной, в доме Вел<икого> кн<язя> Владимира Алекс<андровича>, который дал ему квартиру за баснословно дешевую цену, лишь бы он жил у него. [4] Вел<икий> кн<язь> очень любил покойного и хотел облегчить его всегда трудное материальное положение. Аукцион производился распоряжением брата Владимира Николаевича.
Модест Ильич Чайковский, мой дядя, писал биогр<афический> очерк покойного по моей просьбе, [5] для издания первого посмертного, средства для которого (2000 р.) [6] дал Вел<икий> кн<язь> Влад<имир> Алекс<андрович>. Издателями были Вел<иким> кн<язем> выбраны К<онстантин> К<онстантинович> Случевский, [7] покойный Вл<адимир> Ник<олаевич> Герард [8] и я. Доход от продажи издания поступил, по желанию Вел<икого> кн<язя>, в пользу наследников. Вся семья Чайковских знала Апухтина с детства. Композитор был его одноклассником по Учил<ищу> правов<едения>, и они были большими друзьями до смерти. Чайковский, умерший 25-го окт<ября> 1893 г., около 1-го августа того же года телеграфировал Апухтину с Днепра, с парохода: «Видел ужасный сон, как твое здоровье, отвечай». Это было последним сношением друзей. Апухтин умер через 17 дней, а Чайковский через 1 1/2 месяца. Модест живет постоянно в Италии или в Клину, под Москвой, где дом и музей в память Петра Ильича. Заграничного его адреса не знаю.
Слуга Ал<ексея> Ник<олаевича>, знаменитый Егор, [9] живший у него 33 года, умер в 1890 г. у Ал<ексея> Ник<олаевича> на квартире, в моем присутствии. После него у Апухтина служили трое, и последний какой-то немец, был у него всего несколько месяцев, очень хорошо ухаживал за больным, но что с ним и где он, не знаю.
Братьев найти или узнать что-либо о них, мне кажется легче всего через калужского губ<ернского> предв<одителя> дворянства. Именьице Павлодар, родовое рода Апухтиных, кажется, перекуплено купцом, на дочери которого женат брат Алек<сея> Ник<олаевича> – Владимир Николаевич.
Вы, может быть, и меня сочтете за бессердечного, так скоро мною <много> забывшего о друге, не могущего дать Вам точных сведений. На это существ<уют> причины. Апухтин умирал здесь летом. Я два раза нарочно приезжал из деревни, чтобы быть при нем, когда мне сообщили, что дело плохо. Я оставался раз 10 дней, другой раз 5 дней и уезжал, видя, что дело тянется. Уехав второй раз 15-го авг<уста>, уже 17-го в деревне получил телеграмму, что А<лексей> Н<иколаевич> скончался, и я даже не поспел на похороны. Не зная, что такое его брат, бывший при покойном и хоронивший его, я не предполагал, что о нашем дорогом Ал<ексее> Н<иколаевиче> для нас почти ничего не останется. И, видите, не осталось ничего, кроме могилы. О ней позаботились мы с Вами.
Знаю, что делами Варвары Анд<реевны> Апухт<иной> ведал присяжных поверенный Гарф. Если он существует в Каменце, то от него можете многое узнать.
До свидания, добрейший Александр Владимирович. Надеюсь, когда будете в Петербурге, найдете меня, который будет очень рад Вас повидать и пожать Вашу руку.
Преданный Вам
Георгий Карцов.
29-е янв<аря> 1905 г.
Инв. № 62689
Из писем А. В. Гарфа к А. В. Жиркевичу
№ 1
Присяжный поверенный Андрей Владимирович Гарф
г. Каменец-Подольск
26 марта 1905 г.
Милостивый государь Александр Владимирович,
Охотно и совершенно откровенно отзываюсь на Ваше письмо, тем более что со слов Г. П. Карцова и покойного В. Н. Герарда фамилия Ваша мне давно знакома. Я Вам сообщаю все, что мне по волнующему Вас вопросу известно. Ни одного луча света на обстановку, при которой в августе 1893 г. умер Алексей Николаевич, на появление в его квартире судебного пристава, охранявшего наследство, на продажу затем, по требованию Владимира Николаевича (единственного тогда наличного родственника покойного), с публичного торга всей обстановки… я пролить не могу.
Алексея Николаевича я не знал. Я был дружен с его братом Андреем (член Кам<енец>-Под<ольского> Окр<ужного> суда, скончавшийся в 1892 г.), в доме которого видал приезжавших иногда братьев его Афиногена и Владимира. В 1893 г. Владимир Никол<аевич>, бывший временно по службе в Петербурге, известил вдову Андрея Ник<олаевича> о кончине Алексея Никол<аевича>, а затем, уже зимою, приехал сам в Каменец, привез кой-какие мелочи из квартирной обстановки покойного и журнал судебн<ого> пристава об описи оставшегося имущества и продаже его за 393 р. 50 к., каковые деньги были истрачены на похороны. Завещания не оказалось, наличных денег 45 р. 45 к. В описи кроме того стояло: «разная переписка и бумаги без цены в одном саквояже». Наследниками к этому литературному богатству оказались: братья покойного Афиноген и Владимир и сын умершего Андрея. Первый из лиц жил в то время в Сибири [1] и сношения с ним заняли много времени. Ходатайствовать об утверждении в правах наследства было поручено мне, и только в январе 1894 г. собраны были наконец доверенность и метрики, с которыми я приехал в Петербург; 11-го февраля состоялось определение Окр<ужного> суда, и только тогда явилась возможность вскрыть саквояж с бумагами.
Вам, конечно, известно то горячее участие, которое принял Великий князь Владимир Александрович в издании трудов покойного поэта. При мне он передал В. Н. Герарду 3000 р. на это издание и поручил покойному же К. К. Случевскому принять в этом деле участие. Сформировался издательский комитет: Случевский, Герард, Карцов и Ваш покорный слуга. Не без трепета сорвали мы печати и нашли чистенько переписанные рукою Алекс<ея> Ник<олаевича> переплетенные тетради его прозы, не видавшей еще типографского станка, несколько недоконченных тетрадей известных уже его стихов (переписанных, видимо, почитателями таланта), 5–6 перечеркнутых обрывков и… кучку разных поздравительных телеграмм. Ни одного письма, ни записки, ни простой расходной книжки, ни одного счета (нет, виноват: был счет типографии Сущинского по 1-му изданию). Вот Вам искренний и точный отчет о том, чему я был очевидцем.
Видя из писем Ваших в Варваре Андреевне и ко мне Ваше сердечное отношение к уважаемой памяти покойного поэта, я очень сожалею, что в интересующем Вас вопросе я так же слеп, как и Вы.
Участие мое в этом деле, как видите, не могло быть интимным, да и началось-то оно через 1/2 года после кончины Алексея Николаевича, когда оставался только один этот саквояж, бесценный для памяти о покойном. К этому дорогому, не для одних только родственников, наследию отношение лиц, чтущих память покойного, было истинно сердечным, лучшим чему доказательством служат тщательная проверка текста и пополнение книги во 2-м и 3-ем издании.
Если Владимир Николаевич, единственный для разрешения Ваших вопросов источник, даст Вам какие-нибудь указания – буду очень рад.
Примите уверения в моем совершенном почтении и преданности.
А. Гарф.
Инв. № 61991
№ 2
1-го сент<ября> 1906 г.
Милостивый государь Александр Владимирович,
В квитанции на посланный Вам Варварою Андреевною ящик вышло какое-то недоразумение, благодаря суете при укладке вещей перед выездом. 26-го августа Варвара Андреевна уехала в Оренбург на жительство к замужней дочери и, уезжая, передала мне Ваше письмо, с которым я отправился в контору и уладил дело. Думаю, что по прилагаемому письму местное агентство Смоленское выдаст Вам посылку, в получении которой будьте любезны уведомить прямо Варвару Андреевну по адресу: Оренбург, Николаевская ул. 5, кварт<ира> А. М. Труфанова, Ея… и т. д.
Если же Смоленское агентство заупрямится, чего не допускаю, черкните мне, и я буду еще беседовать с местным агентом.
Примите уверения в совершенном почтении готовый к услугам Вашим
А. Гарф.
Инв. № 619992
Из писем В. Н. Апухтина к А. В. Жиркевичу [1]
№ 1
<…> На всех книгах, как Алексея Николаевича, так и на моих, инициалы «ВА» поставил я, так как в полку и здесь приходилось давать читать – это была мера против зачитыванья книг. Пусть эта «ВА» Вас не смущают. Об этом я Вам говорил и писал. Кроме того, много книг А<лексея> Н<иколаевича> я отдавал сам в переплет – и тоже ставил на них иниц<иалы> «ВА». Из книг «Родословный сборник Русских дворянских фамилий» [2] у меня только 2 тома, которые я очень дорого ценю, тем более что в них есть наша родословная Апухтиных [3] и Желябужских, [4] из рода которых Варвара Андреевна; ей, отдавая остальные томы, в этих двух я отказал, несмотря на ее просьбу. <…>
Инв. № 61400
№ 2
(март 1905 г.)
<…> Хотя в настоящее время я не состою наследником литературных произведений покойного брата моего Алексея Николаевича, и я не был единственным его наследником, тем не менее у меня имеется много его вещей и карточек от молодых лет до последней его минуты. Кроме того, я находился при брате от начала последней его болезни до кончины и распоряжался его похоронами. Многое я мог бы сообщить Вам о его жизни и душевном состоянии последних дней. Все это, конечно, много удобнее было бы передать Вам лично, а поэтому, если Вы найдете возможным приехать ко мне, я буду очень рад. Очень дорожа памятью брата, я желал бы точнее пополнить биографию его, написанную Модестом Чайковским. [1] По смерти его, остались рукописи, напечатанные и несколько записных книжек, имеющих слишком частный характер и к настоящему делу не пригодных. Частной же переписки покойный брат мой не хранил, и ее почти не оказалось. Проехать ко мне в настоящее время, при санном пути и по восстановке дорог после весеннего разлива, удобнее по жел<езной> д<ороге> до станции Белев, оттуда 45 верст до моего хутора при с<еле> Павлодар. [2] Хотя почтового тракта здесь нет, но почтовых лошадей можно достать. Может случиться, что возница не будет знать кратчайшей дороги, а потому пишу подробный маршрут. Из Белева на хутор Брежнево, с<ело> Кирейково, усадьбу Клягина, с<ело> Шереметьево, д<еревню> Ягодное, от которой лесом 3 версты до хутора подполковника В. Н. Апухтина. [3] Можно проехать Орел Болхов 75 верст или станция Хотынец Орл<овско->Витебск<ой> жел<езной> д<ороги> до моего хутора 40 верст, но проселочная дор<ога>. Если найдете поездку излишней, то напишите более подробно те сведения, которые Вам нужны, и я постараюсь помочь Вам всем, чем могу.
С искренним почтением. Готовый к услугам
В. Апухтин
Инв. № 61401
№ 3
(получено 20 июня 1905 года)
Многоуважаемый Александр Владимирович,
Последнее Ваше простое письмо я получил и немного запоздал ответом за болезнью. Откровенно говоря, мне очень хотелось бы с Вами познакомиться, и думаю, что свидание состоится, а пока постараюсь письменно сообщить все, что сочту Вам полезным.
Алексей Николаевич всегда при жизни боялся смерти, когда же состояние его здоровья стало безнадежным, он до такой степени спокойно ожидал конца, что всякий не знающий его мог счесть это за рисовку. «Что ж, – говорил он мне, – пожил более полвека и довольно». Когда доктора приговорили его к смерти, я старался скрывать от него опасность его положения и уверять, что он еще поправится. «Полно говорить вздор, разве люди в моем положении поправляются?» Несмотря на тяжелое нравственное и физическое состояние его особенно пред концом, он не терял своего юмора. Более всего поводом к остротам служил его лакей <нрзб> Егор, у которого были 2 поговорки, которыми он, кстати и некстати, пересыпал свою речь, – «нет слов!» и «главное основание». «Вот, Алексей Николаевич, – говорил Егор, переворачивая брата, – главное основание у Вас ножки в ранах». – «Ах, Егор, какое же тут главное основание, нет слов, что у меня болят ноги, но главное основание не в них». Проводя бессонные ночи, Алексей Николаевич по свойственной ему деликатности стеснялся меня разбудить, и мне стоило много труда упросить его будить меня каждый раз, когда он страдал бессонницей, и тогда у нас шли бесконечные разговоры, воспоминания детства, рассказы о его жизни, причем все часто пересыпалось шутками и остротами, будто его не ожидает близкая смерть. Большое участие в нем принимал Великий князь Владимир Александрович. Еще в начале болезни Великий князь уступил ему квартиру в собственном доме, тогда еще брат мог ходить и переезд на новую квартиру его очень развлек, и у него появилась надежда на выздоровление, хотя ненадолго. На этой квартире он и скончался. popup_anything id=»16696″] Великий князь назвал его бессребреником, и действительно, хотя иногда и в давние времена он терпел недостатки, он не соглашался издать свои произведения. Не все стихотворения вышли при его жизни, повести же свои он так и не решился издать, и они вышли посмертным изданием. [2] Незадолго перед смертью покойник собирался написать большой исторический роман, но ему не суждено было <появиться> даже вчерне, [3] хотя он потратил много времени на чтение истории, 4 огромных тома были им прочитаны. Одной из последних рифм Алексея Николаевича была расписка в доме кого-то из знакомых: «На склоне бурных лет Апухтин Алексей». И последний ответ на приглашение кого-то из высокопоставленных людей, не знавших о его болезни и приславших просить его на вечер за день до смерти, ответил: «А я уже приобщился».
В тех книжках, которые Вас так интересуют, нет ничего идущего к делу. В одной запись его карточных долгов, в другой – несколько строк дневника во время его пребывания в Бадене, где тогда еще была рулетка, запись такого рода: ______ числа выехал за границу, думал о братьях, ______________________________ Баден-Баден проиграл 250 р.
проиграл 300 р.
проиграл 400 р.
проиграл 300 р.
проиграл 680 р.
Начинаю скучать по родным, да и пора возвращаться. [4]
Я с братом Николаем [5] служили вместе в военной службе в Западном крае, и Алексей Николаевич 2 раза приезжал к нам, второй раз прощаться при выступлении в поход во время Турецкой войны, но я думаю, описание нашей встречи и его посещение не имеют значение в данном деле.
Вот, многоуважаемый Александр Владимирович, если такого рода непоследовательные воспоминания Вам пригодятся, сообщите откровенно, все, что припомню, напишу Вам. Какие из карточек Алексея Николаевича Вам прислать? Пишите по прежнему адресу, но, пожалуйста, заказными. Я получил Ваших 2 заказных и одно простое.
Глубоко уважающий Вас
В. Апухтин.
Инв. № 61404
№ 4
(1906 г.)
7 февраля
<…> Вы пишете, что желали бы приобресть библиотеку его, она полностью досталась мне, около 50 книг, многие с подписью авторов. Я не прочь уступить их Вам, потому что я вижу, как Вы дорожите его памятью. Если пожелаете, могу также уступить часть его вещей. А пока вкратце повторю сообщение воспоминания его детства.
Лет около 13 он написал пародию на стихотворение Фета, оканчивающееся словами: «Лучше же всех несравненный, единственный Фет!» [1] Эти стихи Карпов [2] без его ведома напечатал в Современнике, [3] чем Алексей Николаевич был поставлен в очень неловкое положение ко дню приезда к нам Фета с Тургеневым, приезжавших к нам на охоту. Фет, встретя нас, младших детей, обратился со словами: «Где ваш старший брат, я приехал надрать ему уши», и долго не могли разыскать Алек<сея> Николаевича, пока нашли со стихами: «Прости, прости поэт». [4] В юношеском возрасте он написал и напечатал 10 стихов в Современнике, из которых только 1 попал в общий сборник «Еще свежа твоя могила». В 60 годах, перед освобождением крестьян, он тоже был частью проникнут духом того времени и написал следующие стихи в числе <нрзб>: «Здравствуй, старое селенье / Я знавал тебя давно» <…> [5]
Когда я был в Константиновском училище, я постоянно ходил к нему <нрзб> и часто читал его книжку, куда [вписались] его стихи. Книжка эта (в жизни) в Италии пропала, некоторые стихи, как эти, так и к «морю» [6] остались у меня в памяти и [два] благодаря этому попали в общий сборник. После смерти матери Алексей Николаевич только два раза был в Павлодаре, последний раз с Чайковским 45 лет тому назад он пробыл около месяца. Вообще же он очень тяготился пребыванием в деревне, где потерял так глубоко любимую и любившую его мать, [7] хотя в стихах часто упоминается деревня, где он проводил детские годы <…>
Инв. № 61405
<…> Как жаль, что Вы не остались у нас еще день, так напрасно проведенный в Белеве. В эти одни сутки, как ни спешил Вам рассказать все, но в сущности очень мало сообщил нового. Думаю, летом, если исполните Ваше обещание побыть у нас дольше, все припомним и запишем, а пока пишите запросные пункты, что Вам нужно для биографии, постараюсь сообщить, что мне известно.
Теперь о себе. 20 лет, как состоялась эта несчастная свадьба, и более двух месяцев совместной жизни не было. Она дочь крестьянина-миллионера, отдававшего под залог имений деньги. [1] Самая свадьба состоялась по настоянию Афиногена, имение которого, Павлодар, было уже заложено у него же. Сам я ни деньгами, ни этим имением не пользовался. Не получил никакого приданного и на нем не настаивал ни до свадьбы, ни тем более, когда личность его дочери выяснилась. Она оказалась человеком без всяких правил нравственности, видевшая, как и ее отец, все в деньгах, как и прежде, так и в настоящее время ей нужно дворянское звание и пенсия после моей смерти, поэтому она, не желая жить со мною, не хочет слышать о разводе. Правда, она жалуется всем, что нас разлучила Соня, [2] но и это ложь. Я до того времени, т. е. до приезда Сони ко мне, окончательно прекратил с нею встречи и знакомство, которые, впрочем, и до того времени были с ее стороны маскою и были настолько коротки и с перерывом года на два и т. д. Ее поведение было невозможно и невыносимо, не только для человека мало-мальски воспитанного, но и для каждого господина. Думаю, что факты ее выходок в данном случае описывать излишне, но могут быть подтверждены офицерами 11 Стрелкового полка, видевшими ее в ее короткие посещения меня во время моей службы, – это положительный урод во всех отношениях. Ее грубость, бестактность и нравственная неряшливость известны не только моим товарищам, но и местным крестьянам. Но теперь не в ней дело, а в том, чтобы сделать возможным жизнь Сони – честного, хорошего человека, отдавшего мне свою жизнь, искренно любящей меня, несмотря на разницу лет. Она из хорошей семьи, дочь чиновника. Мать – вдова на пенсии. 8 лет как я с нею и как моя жизнь стала нормальной и осмысленной, а более всего жаль Шуру, будущность которой зависит от устранения препятствий к усыновлению. Я уже обращался к адвокату по бракоразводным делам, он ответил, что это возможно, но требует большего расхода, я же средствами не обладаю, которых я, конечно, не пожалел бы для этой цели. Если Вам понадобятся какие-либо подробности, я сообщу. Уж простите, что утруждаю, но это дело для меня великой важности. Она богата, имение ее стоит 40 т., и, несмотря на это, всем говорит, что ждет моей смерти, чтобы воспользоваться пенсией, лично же мною не «нуждается».
<…> У нее есть 19-летняя дочь и 9-летний сын. Сам я 10 лет как выстроил себе дом, чтобы жить самостоятельно, на второй год по выходе в отставку. Детей ее я не считаю своими, и они, кроме имения матери, имеют капитал, положенный ее отцом перед смертью. <…> [3]
Инв. № 61406
№ 6
Получено 12 дек<абря> <1906>
Дорогой Александр Владимирович.
Вышло какое-то недоразумение. Я не только не говорил, что в биографии М<одеста> Чайковского [1] есть какая-либо неправда, но мне это даже в голову никогда не приходило. Разве можно искать неправды там, где, как в биографии Чайковского, так и в Вашей милой статье, присланной мне, каждая строка дышит любовью к покойному Алексею Николаевичу. Единственно, в чем можно упрекнуть Чайковского, это в том, что как чудно разработана первая половина его биографии, так неполно и не закончена вторая, но и это объясняется тем, что его торопили окончанием биографии к первому изданию посмертных произведений А<лексея> Н<иколаевича>. Если Чайковский пишет, что <Апухтин> не был серьезным знатоком музыки, так это совершенно правдивое определение. Покойник никогда не считал себя в ней знатоком, и мнение это написано по словам брата его, композитора Чайковского – друга покойного, человека в данном случае компетентного. Чайковского и А<лексея> Н<иколаевича> называли «гениальными братьями». Это я лично слышал от покойного. Да! Дорогой Александр Владимирович, возложили Вы еще один венок на забытый памятник Алексея Николаевича Вашей статьей о нем. <…> По моему мнению, Вашей статьей значительно пополнен пробел биографии Чайковского <…>
Инв. № 61413
№ 7
1 мая <1908>
<…> Интересно было бы описать личность нашего командира батальона Карпова [1] и его, между прочим, проделку со Скобелевым [2] и Радецким, когда он после сражения под Шейново явился непрошеный на военный совет и преподнес Скобелеву меду, Радецкому «фиги» – финики, взятые в Турецком лагере. Да и вообще, все командование батальоном Карповым был целый ряд юмористических выходок. Карпов был личностью очень образованной, но немного помешанной. Он бедный и кончил свою жизнь в Николаевской больнице умалишенных. Его прошлое во время польского восстания не лишено исторического значения. Ведь он был послан со знаменами к Императору Александру II, и тогда он отличился тем, что рассказал Государю целый ряд военных похождений, но когда Государь заставил повторить этот рассказ Государыне, он все переврал, хотя тут же получил золотое оружие, но тут же потерял флигель-адъютантство, которое, наверное, получил бы, если бы сумел рассказать более правдоподобно. К нам он поступил прямо под Плевной, после 15 лет отставки <…>.
Перед поездкой в действующую армию Карпов заехал к Алексею Николаевичу (во 2-ом стрелковом батальоне нас было 2 брата), [3] уселся у него на кровати, крутил на нем себе папиросы, осыпая Алексея Николаевича табаком, и все рассказывал о своем сыне, то он у него был Митя, то Коля и. т. д. Братья этого Карпова – Сергея Дмитриевича, командовавшего нашим батальоном, Николай и Аркадий, были большими друзьями Алексея Николаевича и имели большое влияние на его жизнь. [4] Так, например, Аркадий Дмитриевич напечатал в «Современнике» без ведома Алексея Николаевича его пародию на Фета, когда Алексей Николаевич был еще совсем юным <…>. [5]
Инв. № 61417
Из письма А. Ф. Кони к А. В. Жиркевичу
(1907)
Нейшлот
(Финдляндия)
Олофсбад
Глубокоуважаемый Александр Владимирович, посылаю Вам кое-какие памятные заметки об Апухтине. [1] Вы можете на них сослаться в Вашем труде. Стихотворения я не нашел и подозреваю, что отдал его какому-нибудь ярому собирателю автографов. Отчего бы Вам не поместить Ваших воспоминаний в «Русской старине», прекрасно редактируемой генералом Павл<ом> Ник<олаевичем> Вороновым (Фонтанка, 18). Я свои помещаю у него. Вы, конечно, получили первую их часть – о сумасшедших. [2] Я все хвораю и чувствую и чувствую себя весьма дурно. С опасением за свои силы жду заседаний Гос<ударственного> Совета.
Душевно преданный А. Кони.
Впервые я увидел А. Н. Апухтина в конце пятидесятых годов, кажется в 1858 или 1859 году. В это время петербургские литераторы составляли еще сравнительно дружную семью и общими силами устраивали в пользу нарождающегося литературного фонда литературные чтения и спектакли (последние в особой зале при пассаже), усердно посещаемые публикой. Так был поставлен «Ревизор», в котором городничего играл А. Ф. Писемский, Хлестакова – П. И. Вейнберг, Осипа – удивительно талантливый, рано умерший студент Ловягин, купцов – Тургенев, Островский, Дружинин и мой отец [3] ( в то время редактор журнала «Пантеон»), а городничиху моя мама, Ирина Семеновна Кони, [4] принявшая затем деятельное участие в постановке «Женитьбы», где она исполняла роль свахи, Писемский играл Подколесина, а Вейнберг – Кочкарева. Одну из второстепенных ролей в одной, а может быть, и в обеих пьесах, исполнял Апухтин, приходивший советоваться с матерью.
Вскоре он окончил курс, [5] и я видел его уже в статском платье, декламирующим свое стихотворение… [6] Тогда это был худощавый молодой человек с очень выразительными глазами… Стихотворение свое он читал с большим успехом на литературных чтениях (преимущественно в зале дома Руадзе в Троицком переулке), и я, как теперь, вижу его выходящим на вызовы на эстраду…
Через много лет я встретил его снова, в 1873 году, на музыкальном вечере у Карла Юльевича Давыдова, [7] известного виолончелиста. В распухшем, обрюзгшем, не только бледнолицом, но желтоватом человеке, грузно сидевшем в кресле, я бы не узнал юношу конца шестидесятых годов. Одни глаза оставались по-прежнему исполнены ума, жизни и затаенной скорби. Затем мы изредка встречались в верхних комнатах Дворянского собрания. После обеда он садился обыкновенно за карточный стол, но в недолгом промежутке между обедом и игрой иногда подсаживался к какому-нибудь кружку, сидящему за кофеем, и принимал участие в общей беседе, делая тонкие и остроумные замечания, или высказывал навеянные жизнью, обыкновенно очень пессимистические выводы и положения. От разговоров на политические темы он, видимо, уклонялся. Лишь раз, во время годового торжественного обеда, он, рассматривая меню, совершенно неожиданно высказал мне исполненное ядовитой иронии мнение о нашем государственном устройстве. Никогда не слыхал я от него никаких двусмысленных анекдотов или скабрезных рассказов, столь излюбленных в пообедавшей мужской компании.
Помнится, что раз в 1875 г. я познакомил, в общих чертах, покойных В. И. Танеева [8] и доктора Левковича с богатыми материалами по вопросу о самоубийствах, бывшими у меня, как у прокурора Окружного суда, на руках, – и с теми выводами, к которым я пришел, изучая их. К нам подсел Апухтин и слушал меня очень внимательно. Через десять с лишком лет я получил от него записку, в которой он выражал желание прочесть мне одно свое новое стихотворение и спрашивал, когда могу принять его. Будучи горячим поклонником его произведений, ходивших по рукам в списках, и признавая в нем настоящего и большого поэта, я не просто талантливого стихотворца, я был очень рад его письму и отвечал ему, что, не желая затруднять его тягостным подъемом ко мне на 5 этаж, сам приду к нему в назначенное им время. Но он отклонил мое предложение и лишь просил приказать поставить стулья на поворотах лестницы. Выйдя на лестницу его встречать, я был поражен легкостью, с которой он быстро поднялся до меня. Стихотворение было «Из бумаг прокурора». [9] Он требовал моих критических замечаний, но они у меня не нашлись – и в подтверждение верности взятого им тона – я показал ему ряд предсмертных писем самоубийц, списанных из подлинных дел. Когда, после оживленной, хотя и подернутой печалью, беседы, мы расстались, он сказал мне, что намерен когда-нибудь напечатать это стихотворение и посвятить его мне. Я просил этого не делать, не считая себя заслужившим такое посвящение. Впоследствии М. М. Стасюлевич [10] говорил мне, что Апухтин возбуждал, при печатании в «Вестнике Европы» этой вещи, снова вопрос о посвящении, но таковое не состоялось вследствие существовавшего в то время в редакции журнала правила избегать каких-либо посвящений отдельных статей.
В конце восьмидесятых годов мне пришлось слышать два раза у Н. Н. Герарда [11] чтение Апухтиным своих тогда еще не напечатанных прозаических произведений «Из архива графини Д.» и «Дневник Павлика Дольского». [12]
Лучшими чтецами между покойными писателями я считаю Островского, Писемского и Апухтина. Первые двое, впрочем, более играли, чем читали, но третий именно читал, без подчеркиваний, изменений голоса и интонаций, без длительных пауз и «слезы». Но это было мастерское, тонкое чтение, при котором каждому слушателю представлялось по-своему представлять себе внешний образ выводимых автором лиц, на основании даваемых им, по-видимому, бесстрастно, объективных данных. Сама манера, с которою предлагалось это чтение, была проста и изящна, чуждая всякой рисовки.
За год до смерти Апухтина, узнав, что он был болен, я заехал навестить его и застал его в квартире, – где веяло отрешенностью и душевным одиночеством – сидящим в углу тахты, в широком халате, застегнутом на пухлой шее. С бледным лицом, гигантским животом и поджатыми под себя ногами, он напоминал собою статую Будды. Его мучила одышка, и говорил он с расстановкой, но меткость определений и остроумие сравнений оставались прежние. Он бранил Петербург и жаловался, что не в силах из него выехать, хотя бы на летние месяцы – и в его словах звучала большая выстраданная горечь. Мне невольно вспомнился конец его Реквиема. [13]
Когда он умирал, меня не было в Петербурге, и я не мог отдать последнего долга глубокому и трогательному поэту, столь мало оцененному при жизни.
Инв. № 62832
Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – выдающийся судебный деятель, литератор, почетный член Академии наук по разряду изящной словесности. А. Ф. Кони был автором многочисленных очерков из судебной практики, теоретических работ по вопросам права, книги «Отцы и дети судебной реформы», пятитомных воспоминаний «На жизненном пути» – о встречах с видными представителями государственной власти, судебного ведомства, деятелями культуры, в том числе с писателями: Толстым, Достоевским, Гончаровым, Некрасовым, Апухтиным и др. Случаи из судебной практики, блестяще рассказанные Кони, легли в основу «Воскресения» Толстого, поэмы Апухтина «Из бумаг прокурора», некоторых сюжетов «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова.
Жиркевич не принадлежал к числу близких друзей Кони, но переписку с ним вел более 30 лет. Нравственная позиция Жиркевича была близка гуманисту Кони. Он считал Жиркевича человеком, который «среди прозы и мумифицирования судебно-служебной жизни сумел сохранить в себе живое отношение к вечным запросам ума и “роптанью вечному души!”» (письмо к Жиркевичу от 12 мая 1899 года). «<…> Вы – живой человек, и, конечно, можете многое «человеческое» внести в Вашу деятельность» (письмо от 15 июня 1908 года). В архиве Жиркевича сохранилось около 50 писем и открыток А. Ф. Кони. Часть их была опубликована в журнале «Знамя» (1995. № 1). С благоговением относился Жиркевич к имени Кони, считая его одним из выдающихся людей России. Недаром свои воспоминания «Поэт милостию Божией» он посвятил А. Ф. Кони.
СЛУЧАЙ, ЗАПИСАННЫЙ А. В. ЖИРКЕВИЧЕМ В ЕГО АЛЬБОМ, ВЕРОЯТНО, СО СЛОВ РОДНЫХ А. Н. АПУХТИНА
На спиритическом сеансе вызвали дух Апухтина (его родные, живущие в Орловской губернии), прося поэта в доказательство его самоличности, продиктовать какие-либо стихи на тему, каково живется на том свете… Дух Апухтина продиктовал тогда следующее:
«Друзья! Не в моде здесь стихи…
И проза здесь не в моде…
Здесь в силе старые грехи –
И все, что в этом роде».