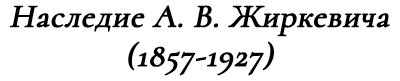Биография А. В. Жиркевича, составленная его младшей дочерью Тамарой Александровной Жиркевич
Отчизне милой посвятим
Души прекрасные порывы.
А. С. Пушкин
Торопитесь делать добро.
Ф. П. Гааз
Но торопитесь спасать старину.
А. В. Жиркевич
Город Люцин Витебской губернии, где родился в 1857 г. 17 ноября Александр Владимирович Жиркевич, стоит на берегу громадного озера Большие и Малые Лужи. Кругом много зелени. В Люцине развалины замка ливонских рыцарей, основанного в XIV веке и разрушенного царскими войсками в XVIII веке. В земле находят много предметов старины. Замечателен Люцинский могильник, богатый захоронениями языческой эпох На горе — кладбище, где похоронен дед А. В. Жиркевича Александр Иванович Астафьев.
Проезжая на следствие в 1896 г., Жиркевич заехал посмотреть могилу деда. Он записал тогда в Дневнике: «От замка и окрестностей веет глубокой, кровавой стариной. Мой приезд всех всполошил, полиция суетилась, вызвали священника для встречи со мной. Мне было неловко и смешно. Многие еще помнят деда и говорят о нем тепло». [1]
В автобиографии А. В. Жиркевич пишет: «Первое впечатление детства — это впечатление неясное, которое каким-то туманным пятном без образов и ярких красок проносится в моей памяти. Это скорее запомненное, если можно так выразиться, чувство… Крутой берег какой-то широкой реки, даль и простор без границ и без меры и над всем этим заунывная, щемящая душу русская песня. Но ни местности, ни времени, когда я подвергался подобному впечатлению, ни слов песни — не помню. Что-то мутит душу, кого-то жаль, кто-то связан с этим чувством необъяснимыми, но крепкими узами. Был ли то отец или мать, или друг — я не знаю. Само воспоминание мучает меня часто и теперь неразгаданностью и таинственностью…» [2]
* * *
Семья, в которой родился Александр Владимирович Жиркевич, была семьей потомственных военных. Дед его по отцу, Иван Степанович Жиркевич, [3] участник войны 1812 года, награжденный Георгиевским крестом и орденом Анны, адъютант Аракчеева, бывший губернатор Симбирска и Витебска, оставил интересные мемуары, печатавшиеся в «Русской Старине» и «Историческом Вестнике». [4]
Детство А. В. Жиркевича было нерадостным, так как отец его Владимир Иванович страдал запоем, в пьяном виде издевался над женой, азартно играл в карты. Дети всё это видели и подчас ненавидели отца. Уже в детские годы Саша не мирился с несправедливостью и однажды, заступившись за мать, был выброшен отцом за дверь. В другой раз из-за матери же он получил от отца пощечину. Но, став взрослым и вспоминая детские годы, он говорил, что пострадать за тех, кого любишь и к кому относятся несправедливо, было для него всегда счастьем. [5]
А Владимир Иванович постепенно опускался все ниже и ниже и должен был уволиться с военной службы. В дом пришла нужда. Семья в поисках заработка переезжала с места на место.
Одно время Владимир Иванович служил лесничим на казенной ферме под г. Лидой Виленской губернии. Кругом леса, поля — и эта близость к природе сыграла немаловажную роль в воспитании Саши. Он страстно полюбил природу и увлекся охотой, хотя и сознавал, что это противоречит его гуманному отношению к животным, и в скором времени эта «варварская забава» перестала его увлекать.
Впоследствии, сотрудничая в детском журнале «3орька», он напишет рассказ из своей детской жизни «Волчок» о принесенном охотниками к ним в дом волчонке, которого Саша с братом Ваней приручили к себе лаской. Ставши взрослым, волк терроризировал кухарку: несмотря на ее отчаянные вопли, грозно рыча, он забирал у нее со стола все, что ему нравилось. Но обожал вырастивших его мальчиков. Мы, дети, без слез не могли слушать конец этого рассказа о том, как Сашу и Ваню отправили учиться в Вильно, а волк перестал есть, лежал на постели у Саши, выл, рвал подушку зубами и сдох с тоски.
Саша очень любил животных и возмущался при виде того, как их бьют и истязают. Однажды с ним даже сделался истерический припадок, когда его мать, в раздражении, выбросила за окно любимую кошечку Саши, мешавшую его занятиям.
Саша участвовал в походах против мальчишек, разорявших гнезда. Старался спасти собак от собаколовов «гицелей», отпуская потом спасенных псов на волю.
О своем детстве Жиркевич оставил воспоминания в поэме «Картинки детства», где с большой любовью вспоминает свою мать, бабушку и денщика отца «незабвенного Корнеича», который приставлен был к детям в качестве няньки. Не отсюда ли его любовь и горячее сочувствие к русскому солдату и желание ему помочь, защитить от несправедливостей?
В доме родителей А. В. Жиркевича царили старинные нравы, обычаи и взгляды: преобладала обрядовая набожность, религиозный мистицизм, обожание царской фамилии, ненависть к другим национальностям, религиям — только потому, что они не русские — так называемый «квасной патриотизм». [6]
Тем не менее, став взрослым, Александр Владимирович Жиркевич, глубоко любя все русское, возмущается, когда видит неуважение к чужой религии, притеснение других народностей и т.п.
Рано проявилось у Саши безотчетное страстное обожание музыки, пения, хотя в доме его родителей все это отсутствовало. Живя у бабушки, он, малолетний ребенок, ложился на пол квартиры и прижимался ухом к полу для того, чтобы наслаждаться прекрасной игрой живущего внизу пианиста, причем от восторга и умиления плакал, вызывая насмешки окружающих и их искреннее удивление. [7]
От матери он унаследовал религиозность. Евангелие было его настольной книгой всю жизнь. Но стараясь жить по заветам Христа, он, впоследствии отрицает церковь и ее священнослужителей, видя в них, порой, алчность, карьеризм и много другого чуждого христианскому учению.
14-ти лет Александра отдают учиться в Виленское реальное училище. Здесь впервые проявляется его страсть к коллекционированию. На уроке естественной истории он просит подарить ему показанную раковину. Удивленный учитель, исполняя его просьбу, спрашивает: «Зачем она вам?» — «Для коллекции», — отвечает Саша, не обращая внимания на то, что товарищи (не без зависти) шепчут ему вслед «нахал», «попрошайка», «нищенка». [8] Коллекционирует Саша все, что ни попадается под руку, — книги, старые монеты, рисунки, отдавая за это свои порции мороженого или сладкие пирожки. Особый сундучок содержал в себе его приобретения. И как гордился он ими, показывая их товарищам. Страсть коллекционировать не оставляет его всю жизнь. [9] Став взрослым, он собирает картины, документы, различные вещи, имеющие историческую и художественную ценность, и впоследствии передает их в музеи.
В реальном училище проявляется и его интерес к литературе. Он даже послал свои стихи И. С. Тургеневу и получил от него в ответ фотографию с подписью, которую хранил всю жизнь. По окончании реального училища Александр Владимирович поступает в юнкерское училище и, окончив его, служит в местечке Гольшаны Ошмянского уезда Виленской губернии в 108-м пехотном Саратовском полку.
В скором времени его производят в офицеры.
Здесь снова, как в детстве, проявляются у Жиркевича качества его характера: он добр, но непримирим ко всякой несправедливости, к унижению человеческой личности.
Вот как он описывает свои переживания в «Заметках» при наказании солдата: «…Самое ужасное для меня воспоминание первых лет моей работы в Гольшанах — это когда меня, только что прибывшего и вступившего в командование ротой, заставили присутствовать при экзекуции беглого солдата. Его привели под руки, так как он еще не оправился от предыдущей порки и бежал больной. Его поймали и назначили (кажется) 300 ударов. Говорили, что в ту порку он кричал. Здесь же, когда его привели, он только сказал: “…вашу мать с вашими законами”, потом закусил руку и не издал ни звука. Поркой командовал поручик Казакевич. Солдаты сначала хотели только касаться осужденного, Казакевич стал орать на них: “Дери его, дери его как следует!” …На ягодицах сначала выступили капли крови, а дальше при каждом ударе брызгала фонтаном кровь и летели куски мяса, так что на ягодицах стали делаться вмятины. Солдат несколько раз терял сознание, но его приводили в чувство и снова продолжали. Я никогда не забуду лица этого солдата, когда его несли после экзекуции, — серое лицо, провалившиеся глаза, сведенные руки. Поручика Казакевича я возненавидел на всю жизнь. Мне все время вспоминался этот солдат, когда я взглядывал на Казакевича. А солдат пролежал долго в больнице, а потом снова бежал и исчез бесследно, говорят, что он утопился в Вилии…» [10]
Жиркевич вникает в быт и нужды солдат. Из своего скудного заработка помогает нуждающимся нижним чинам, пишет неграмотным письма на родину, устраивает по своей собственной инициативе по вечерам в праздничные дни чтения и беседы. Солдаты любили его за это и стремились к нему в денщики. Особенно предан был ему один из них. В бытность Жиркевича в Академии ему пришлось встретиться с этим своим подчиненным, служившим банщиком в общественной бане Петербурга. Они встретились как старые друзья. И когда Жиркевич, терпя в период учебы крайнюю нужду, заболел брюшным тифом, то бывший денщик снабжал его деньгами, которые впоследствии были ему, конечно, возвращены. [11]
Жиркевич вступается за подчиненных солдат. Вернувшись из местечка Гольшан в Вильну, он попал на большие маневры, проходившие под Вильной в присутствии командования войсками Виленского округа… В разгар маневров штабс-капитан Длусский явился в роту, которой командовал Жиркевич, и, видя, что при стрельбе солдаты неправильно держат ружья, стал поправлять их (лежащих на земле), тыча носком сапога в лица. На просьбы Жиркевича прекратить это издевательство, последовал ответ: «Не ваше дело! Я за роту отвечаю! Не забывайте, что вы находитесь в строю!» — и новый пинок в зубы лежащего солдата. Тогда Жиркевич вкладывает саблю в ножны, выходит из строя и уходит с маневров. Затем подает рапорт командиру батальона, в котором пишет, что совершил воинское преступление, покинув фронт, за что и должен отвечать по суду, но что и бить солдат в строю воспрещается. Дело замяли. [12]
Окружающая среда угнетает А. В. Жиркевича. «Неужели я создан только для того, чтобы учить солдат глупостям», — пишет он в дневнике. Хочет вырваться из этой среды, учиться, но средств на это нет.
С 1881 г. А. В. Жиркевич пробует писать и посылает свои стихи и рассказы в журналы «Природа и охота» и «Глобус». Некоторые из них были приняты и напечатаны. [13]
* * *
Большая часть жизни отца прошла в городе Вильне. Отец любил этот город с его узкими улочками, мощенными булыжником, старинными домами, крытыми черепицей, массой костелов и церквей. Он любил заходить в Духов монастырь, где покоились чтимые православными людьми мощи святых великомучеников Антония, Иоанна и Евстафия и где в полумраке подземелья совершалась торжественная служба. Верующие приносили вышитые тапочки, которые надевались на ноги святых великомучеников, освящались и возвращались верующим.
А рядом с Духовым монастырем находилась знаменитая икона Остро-Брамской Божьей Матери — одинаково дорогой как католикам, так и православным. Икона помещалась в арке над улицей, и по этой непроезжей, тихой улице, крытой деревянными брусками, верующие католики проползали, молясь на коленях, а православные проходили, крестясь и снимая шапки.
На улицах лязгали и гремели конки, запряженные тройкой часто донельзя тощих и измученных лошадей. Даже маленькую горку им было трудно преодолеть, и кучер бежал рядом, кнутом и криком стараясь подбодрить лошадей. Когда отцу приходилось ездить на конке, он всегда, из жалости к измученным животным, сходил с конки в этих местах и шел пешком.
Ремесленное население Вильны было преимущественно польско-литовское, белорусское и еврейское.
Седобородые евреи, одетые в белые с черными полосами талесы, справляли свои обряды на берегах Вилии. А русские священники в праздник крещения, иногда в сильный мороз, погружали в прорубь святой крест под залп пушки. «Пушки и святой крест… Ну не кощунство ли?» — говорил Жиркевич.
В центре города площадь с собором и колокольней, а дальше прекрасный парк Телятник с горой Гедемина, поросшей вековыми каштанами.
Любил отец и шумевшую по камням речку Вилейку, и спокойную в течении Вилию, и городской район Антоколь с его костелом Петра и Павла.
Примерно в 1883 г. Александр Владимирович Жиркевич знакомится в Вильне с семьей Снитко: юной Екатериной Константиновной, ее братом Андреем, их дедушкой профессором университета, историком Павлом Васильевичем Кукольником, воспитательницей Кати и Андрюши Варварой Ивановной Пельской — заменившей осиротевшим детям мать.
С Катей Снитко он встречается на танцевальных вечерах, бывает у них в доме и влюбляется в эту «скромную, умную и добрую девушку» — нашу будущую мать.
Вот как он, много лет спустя, в своей памятке «Потревоженные тени», написанной для дочери, пишет про Катю Снитко:
«Мамочка ваша никогда не была красива. Но у нее были в молодости изящная фигурка, чудные, почти до колен, густые волосы и ясные, чистые, красивые глаза, при свежем румянце лица. При скромности костюма она в обществе поражала удивительным тактом и сдержанностью, так что казалась старше своих лет и выделялась между подругами, с которыми в Вильне выезжала в свет… На вечерах в те дни мы с нею встречались у старушки Любови Петровны Марк. В доме устраивались домашние спектакли, в которых на второстепенных ролях принимала участие и Катюша, после же спектакля танцы под рояль. Катюша танцевала хорошо, но я, как не танцующий, только издали ею любовался… Признаться, я сам долго не мог отдать себе отчета в том чувстве, которое невольно влекло меня к Кате. Только почувствовав окончательно, что я влюбился, решил я завоевать право на семейное счастье высшим образованием, почему и стал готовиться в Академию…» [14]
В 1885 г. А. В. Жиркевич едет в С.-Петербург и поступает в Александровскую Военно-Юридическую Академию. Учится и живет на стипендию. Из дому ему ничем помочь не могут. Обедает раз в неделю и в дни сдачи экзаменов, «чтобы голова ясно работала». С Екатериной Константиновной и ее воспитательницей Варварой Ивановной Пельской идет оживленная переписка.
Живя в Петербурге, бывая у своих родственников Герардов (Н. Н. Герард — член Государственного Совета), Жиркевич знакомится с поэтом А. Н. Апухтиным, с пианисткой В. В. Тимановой. Через них с поэтом К. М. Фофановым, с художниками И. Е. Репиным, Н. Е. Сверчковым.
Посещая литературные кружки, он и сам мечтает стать писателем. Пишет стихи, которые одобряет Апухтин и которые вызывают восторженные похвалы Репина и Фофанова.
К А. Н. Апухтину как человеку Александр Владимирович относится вначале отрицательно, но восхищается им как поэтом — «стихи его прелестны». Познакомившись ближе, Жиркевич начинает жалеть Апухтина, который из-за своей болезненной тучности («мальчишки пальцами показывают») и из-за несчастной, без взаимности любви к Панаевой принужден прятаться от людей.
«Вообще Апухтин ужасный весельчак, и там, где он бывает, всегда стоит хохот. Апухтин рассказывал, как он хотел в праздник Пасхи “похристосоваться” с одним из приятелей, таким же толстяком, как он, и это им не удавалось из-за животов. Тогда они встали у стола, облокотились на него и поцеловались. “А еще говорят, гора с горой не сходятся”, — сказал Апухтин… С Апухтиным у меня завязывается дружба, начинаю его любить». [15]
Апухтин дает Жиркевичу много советов, поддерживает его веру в себя, находя у Александра Владимировича несомненный поэтический талант.
В «Заметках» Апухтину посвящено много страниц. Большая дружба завязалась и с И. Е. Репиным. Жиркевич и Репин бывают друг у друга. Репин показывает ему свои картины, делится замыслами. Вместе они ходят на выставки. А. В. Жиркевич пишет: «Мне ужасно нравится Репин, его взгляды на жизнь, на искусство, его отношение к людям… По словам Фофанова, я нравлюсь Репину, и мне это приятно…»
Страницы дневника, посвященные Репину, опубликованы в 1949 г. в «Художественном наследстве» — «Репин». [16]
Подружился Александр Владимирович и с поэтом Фофановым. Он находил Фофанова талантливым лирическим поэтом. Особенно нравилось отцу стихотворение Фофанова «Звезды ясные, звезды прекрасные».
Восторгаясь Фофановым как поэтом, Жиркевич очень огорчался пороком, который губил Фофанова: его пристрастием к вину, в конце концов приведшим Фофанова в дом для умалишенных. Вместе с Репиным они опекали его во время болезни, помогали материально его семье, хлопотали перед издателем Сувориным о продлении ему пенсии.
Подружился Жиркевич и с пианисткой В. В. Тимановой, с художником Н. Е. Сверчковым и со многими другими интересными людьми.
* * *
Продолжаются годы учения в Академии.
Несмотря на нужду, Жиркевич полон энтузиазма, веры в себя, в свой литературный талант и интереса к окружающей его литературно-художественной жизни. Часто бывает на выставках, концертах.
В «Заметках» описываются концерты Ганса фон Бюлова, Антона Рубинштейна и других исполнителей. «…Ганс фон Бюлов опять появился на горизонте и вновь участвует в концертах, хотя, уезжая в последний раз, дал слово не приезжать к нам, “варварам”. Но я рад, что нахального немца проучили. В декабре <…> Бюлов разучивал с оркестром “Арагонскую Хоту”. Фон Бюлов находил, что Глинка в одном месте неправильно поставил фа-диез — должно быть фа (или наоборот — не помню), но оркестр не согласен, и на каждой репетиции фон Бюлов кричит “фа!”, но оркестр играет свое “фа диез” <…> Они не хотят менять то, что поставил Глинка».
«… Антон Рубинштейн давал свои исторические концерты. Последний раз я слышал его в январе в концертах “Патриотического общества”. Он только что вернулся из Москвы, был крайне измотан, хотя все же сыграл четыре пьесы подряд. Пот катился с его плоского измученного лица, и мне он казался каким-то добровольным мучеником, идущим на крестное страдание. А публика все требовала повторений <…> Фигура Рубинштейна очень типична: довольно высокого роста, брюнет с проседью, мрачная подвижная фигура, грива назад зачесанных волос, которая дрожит во время игры и падает на глаза. Длинные руки с длинными мускулистыми пальцами, под которыми бедный рояль все время качается, точно стонет…»
«…Только что вернулся с музыкально-литературного вечера в зале Кононова. Молодые поэты и писатели по наружности произвели на меня неприятное впечатление, особенно Максим Белинский и граф Голенищев-Кутузов, [17] читавший свои произведения умирающим голосом. Одна девица из публики, заметила про Максима Белинского: “Как не стыдно! Такой большой и таким голосом читает!” Горячо и хорошо читают Минский и Мережковский. Стихотворение последнего “Сакия-Муни” — прелестно…»
«… Был на выставках И. К. Айвазовского и Р. Г. Судковского. На первой полно народу. Весь свет аристократии — “ахи-охи”, хотя многие картины не на высоте и надуманы: например, фигуры и одежда в картине “После всемирного потопа” <…> У Судковского все естественно и искренне. В его картине “Будет штормить” так и чувствуется приближение шторма. И все другие очень искренние. Но его вдова, устроившая выставку, даже не покрыла расходов на нее…»
«Заметки» того времени полны описаний интересной культурной жизни Петербурга.
В год окончания Академии Александр Владимирович заболевает тифом. В записках «Потревоженные тени» он пишет: «Больной, слабый, в отчаянии от отказа начальства отложить для меня экзамены, видя все мечты мои о семейном счастье гибнущими, я решился сделать Кате Снитко предложение из лазарета, объяснив ей, что люблю ее давно, что из-за нее пошел в Академию, но что теперь, ввиду запрета врачей, Академию кончить не могу. Поэтому, если она согласится выйти за меня замуж, то ее, быть может, ждет судьба жены армейского бедного подпоручика, жизнь где-нибудь в захолустье и т.п. <…> Вскоре я получил от Кати ответ с согласием выйти за меня замуж, даже если я останусь простым пехотным офицером, с просьбой бросить Академию и думать только о своем здоровье». [18]
Академию Александр Владимирович все же окончил и получил место защитника в Вильне.
23 сентября 1888 г. он женится на Екатерине Константиновне Снитко. Сразу после свадьбы молодые едут в С.-Петербург, где проводят целый месяц.
В Петербурге Александр Владимирович знакомит Катю с И. Е. Репиным и А. Н. Апухтиным…
«…Репин пригласил меня с женой к себе на вечер, куда мы с ней вчера и отправились. Застали за чайным столом В. И. Бибикова и Фофанова. Репин попенял, что я опоздал немного, и заявил, что у него сегодня лишь кружок близких знакомых. Мы просидели до часу, причем время пролетело незаметно, в очень интересных и оживленных разговорах, в которых Фофанов почти не принимал участия, Репин был рыцарски любезен с Катей, и, видимо, лицо ее ему нравилось, так как он в нее вглядывался задумчиво и пристально, что, как я заметил, он делает всегда, когда старается уловить выражение лица, обратившего на себя его внимание … Репин удивляется, что мы женаты всего несколько дней, а кажется, что уже давно…» [19]
Репин задумал серию портретов своих друзей и просит Александра Владимировича ему позировать. «Вчера Репин в один сеанс, вечером, прекрасно, правдиво и талантливо набросал черной масляной краской мой грудной портрет, почти в натуральную величину…». [20]
«Апухтин хочет познакомиться с Катей, но из-за своей полноты не может подняться к нам на третий этаж гостиницы, где мы живем… Повел Катю к Апухтину. Он встретил Катю на пороге. Хорошо одет, подтянут. Ведет ее под руку… Молодежи бы поучиться, как вести себя с женщиной! <…> Катя просит прочесть ей стихи, которые он мне читал накануне и которые так меня восхитили. Апухтин читает и просит разрешения преподнести их Кате…» [21]
Я думаю, стихи, о которых говорит здесь отец, это те, которые он очень любил и часто декламировал и в которых так художественно высказал Апухтин свое мироощущение:
Проложен жизни путь бесплодными степями,
И тишь, и мрак, ни хаты, ни куста.
Спит сердце, сковано цепями,
И разум и уста,
И даль пред нами
Пуста…Но вдруг покажется не так тяжка дорога —
Захочется и петь, и мыслить вновь!
На небе звезд горит так много,
Так бурно бьется кровь…
Мечты, тревога,
Любовь…О, где же те мечты, те радости, печали,
Светившие нам в жизни столько лет…
От их огней в туманной дали
Чуть брезжит свет.
И те пропали —
Их нет. [22]
Апухтин с грустью говорит: «Мне осталось жить не более года!» [23]
Жиркевич знакомит Катю со своей родней, знакомится с ее родными.
Вернулись в Вильно 21 октября.
«Катюша кажется счастлива, а моему счастью нет предела. На вокзале нас встречала Тетя (В. И. Пельская) — я был ей ужасно рад…»
Варвара Ивановна по приглашению Александра Владимировича поселяется с ними. Но уже через год, а дальше все больше и больше возникают столкновения между Варварой Ивановной и Александром Владимировичем на почве религиозных воззрений. «Тетя вмешивается в мои религиозные убеждения… Почему я не хожу в церковь? Мне кажется, нет нетерпимее христиан, как православные… Катя умоляет не спорить с Тетей, смолчать…»
Эти нелады отравляют жизнь.
10 лет прожила Варвара Ивановна в семье Жиркевичей, а потом переехала к Андрею Константиновичу Снитко.
* * *
Жиркевич работает в Вильно защитником…
«Моя первая работа … была защита часового, которому грозила каторга. Этот солдат стал передо мною на колени и просил: «Защищайте меня». Мне удалось доказать, что часовой невиновен и его из залы суда освободили. Я счастлив, что удалось спасти человека. А он пал на колени и благодарил меня». [24]
И другой случай… «…Удалось оправдать рядового Ю., обвиняемого в умышленном вредительстве. <…> Четыре врача находили его притворщиком, но давали такие сбивчивые и противоречивые заключения, что это дало мне возможность, благодаря простому здравому смыслу, поймать их на несообразностях. Судьи сказали мне: “Знаете, отчего мы оправдали Ю.? Оттого что вы, оказывается, лучше знаете медицину, чем они ”<…> — Врачи, у которых у больных идет гной из уха без воспалительного процесса, — отличились». [25]
Много и других случаев описывается в «Заметках». Жиркевич любит свою работу, но все же ему кажется, что не это главное в его жизни, что он должен создать что-то большое в литературе… Он даже хотел бросить юридическую работу и отдаться литературному труду, но «Катя не согласна — что ж, пока покоряюсь».
* * *
Главное в характере отца была доброта и жалость ко всему страдающему — «солдатикам», узникам, нищим, бедным детям, старикам и животным. Постоянно он кому-то помогает, о ком-то хлопочет; и теперь с ним повсюду Катя, его друг и помощник в добрых делах.
Когда умер старый педагог С. В. Шолкович, у которого Жиркевич занимался еще в реальном училище, и дети Шолковича остались сиротами, Жиркевич берет над ними опеку и много лет возится с больной Верой, устраивая ее в больницу, в институт, потом на службу; и с Вадимом — трудным, ленивым мальчиком. Праздники и каникулы Вадим и Вера проводят у Жиркевичей.
Будучи в командировке в крепости г. Бобруйска, Жиркевич был на театральном представлении. «В антракте подошел ко мне палач — Успенский. Слышал о нем ужасы. Это начальник дисциплинарного батальона. Этот старый толстый тип напоминает гадину, когда она крадется к жертве. Наружность его обманчива — ласковая, добрая улыбочка, сладкий голосок. Говорят, он не только порет розгами солдат, но и пытает розгами. На него уже было покушение. Здесь, говорят, бывают “субботники”, на которых порют до беспамятства и правого и виновного за самый пустяк. Успенского зовут “секун”. Когда запретили пытки розгами, он стал приказывать сечь не сразу большими порциями, а несколько дней подряд. Солдат получит 20 розог, и ждут, пока не подживет и не появятся струпья, потом еще 20 и т.д., пока не получит всего. Это, говорят, так мучительно, что некоторое солдаты падали в обморок, когда их вторично приводили. Успенский пригласил побывать в батальоне. Обязательно пойду. <…>
Посетил дисциплинарный батальон с Беком и Никифоровым. Успенский буквально бегом выбежал к нам, расшаркивался, сладко улыбался. Гадкая тварь! Пришло на мысль, что Иуда Искариотский не был, как его изображают: мрачным, суровым, замкнутым, а как Успенский — вкрадчивым, смиренным, добродушным и болтливым.
Общий вид солдат в дисциплинарном батальоне ужасен. Унылые темные лица, пугливые взоры, торопливые движения. Как клетка со зверями. В числе солдат есть и видные лица. Например, князь Моксунов и семнадцатилетний семинарист (очень симпатичный). Карцер ужасен. Воздух отвратителен. Каждого вновь прибывшего сажали для усмирения в карцер <…>. Смотрели так называемый “светлый карцер”, но там темно. Бек сказал мне: “Вас ненадолго хватит, если все так принимать близко и сердцу”. Это верно. <…> “Я не жил, а горел”, как сказал Надсон. Бек много рассказывал о своей прокурорской практике. Если на меня будут так же давить, я брошу эту работу и буду искать другую. <…> [26]
Надо уходить из нашего ведомства! Честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол ставится выше закона. Сердце разобьешь о камни неправды, незнания, заведомой лжи, произвола! Каждый день ухожу с суда с сознанием, что вот-вот выйдет столкновение и я брошу всем этим господам правду в физиономию. Вспоминаю боязнь Кати и смиряю себя. Как неузнаваем я стал: Господи! Дай сил для борьбы! Не всели в меня привычку к чужому страданию! Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему! <…> Какой ужас, какое отчаяние, какая злоба кипит во мне». [27]
* * *
Отец никогда не был завистлив. С восхищением читает первые рассказы «какого-то Чехова». Всегда радовался, встречая на своем пути талант, и старался, чем мог, помочь. Так, например, было, когда в лесу Закрет, под Вильной, встретил он бедного юношу Садкевича, рисовавшего с натуры. Отец дал ему рекомендательное письмо к Репину, снабдил деньгами и уговорил ехать учиться.
* * *
В 1890 г. Александр Владимирович Жиркевич издает поэму «Картинки детства» и рассылает ее знакомым и незнакомым писателям, прося их высказаться о поэме.
На этой почве заводится у него переписка с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, И. А. Гончаровым и другими писателями.
Выдержки из письма Л. Н. Толстого от 30 июня 1890 г. Жиркевичу:
«Александр Владимирович!
Я получил вашу книжку и письмо тогда же, во время моей болезни, и прочел их. Вы спрашиваете моего мнения о книге и совета. Совет мой тот, чтобы вы оставили литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворная. Простите меня, если мои слова оскорбят вас, но старому врать, как богатому красть, незачем и стыдно. Правда же может быть полезна… Вы спрашиваете: есть ли у вас то, что называют талантом? По-моему, — нет. Продолжать ли вам писать? …Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя. <…>
Я сказал, что у вас нет, по-моему, того, что называется талантом, — я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются талантом, но которые я не считаю нужными для писателя. Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету. А это будет ли у вас или нет, никто не может знать, и я не знаю. Могу только сказать, что когда у вас будет такое отношение к предмету, вас занимающему, тогда пишите, и тогда то, что вы напишете, будет хорошо. Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову в вас недоброжелательное к себе чувство, и буду вам благодарен, если вы ответите мне.
Любящий вас Л. Толстой». [28]
14 июля 1890 г. А. В. Жиркевич отвечает Толстому:
«Дорогой, хороший Лев Николаевич! Я получил ваше письмо лишь теперь, пересланное мне в деревню из Вильны. Спешу успокоить вас насчет впечатления, которое произвело ваше искреннее, честное письмо на мое авторское самолюбие. Отчего вы думаете, что я мог даже озлобиться на вас за правду, обидеться за нее? Нет! Если в первую минуту мне стало горько, то только потому, что я ожидал, что книга моя доставит вам удовольствие, но после, перечитывая ваши откровенные строки, и эта горечь исчезла, уступив место благодарности за правду. <…> Вы упрекаете меня в недостатке искренности. Не могу согласиться с вами! В поэме я описываю свое детство, типы, выведенные в ней правдивы, так как я их писал с натуры, были страницы, над которыми я плакал. <…> А вы заподозрили меня в неискренности и каких-то целях! Не обижаюсь нисколько на ваше мнение, но прошу верить, что все написанное в моей книге я перечувствовал, не солгав ни единого слова. <…> Нет, дорогой мой критик. Отвергайте во мне талант, но верните мне человеческое чувство — искренность…» [29]
Толстой прислал ответ 28 июля 1890 г.:
«Очень рад был получить ваше письмо, Александр Владимирович, и очень благодарен за ту доброту, с которой вы приняли мое резкое суждение. Страстное влечение ваше к литературе говорит в пользу того, что я ошибся, что очень вероятно и чего очень желаю. Повторяю только то, что пишите только в том случае, если потребность высказаться будет неотступно преследовать вас. Еще раз спасибо за доброту.
Любящий вас Л. Н. Толстой». [28]
«Картинки детства» вызывают много «критической ругани», к которой Жиркевич болезненно чувствителен.
Репин, Апухтин, Фофанов поддерживают Жиркевича в его литературных опытах. Я. П. Полонский в письмах от 10 и 17 мая 1890 г. подробно разбирает его «Картинки детства», дает ему советы, критикует слабые места: «Но затем я натолкнулся на такие превосходные стихи, — пишет Полонский, — что ни один поэт от них не отказался бы!
Где туча черная, как дым,
Развив свои седые косы,
Роняет дождика откосы
На даль полей: как будто там
Гигантский пахарь по межам
Идет, бросая с шумом семя!
Сильно, верно, картинно и звучно и затем, увы!.. “На нив померкнувшее темя…” Не могу себе вообразить “темени нив” и опять предлог “на” и через два слова “темя”!» [30]
Жиркевич печатается в разных газетах и журналах. Пишет воспоминания, некрологи, статьи публицистического содержания, статьи по археологии и т.п.
Лечась в 1890 г. в Крыму, Александр Владимирович знакомится с И. К. Айвазовским, который на присылку Жиркевичем своей поэмы ответил ему любезным приглашением к себе в Феодосию. Отец проводит у него целый день, знакомится с его молодой женой, осматривает картины Айвазовского в его доме и в музее. Айвазовский дарит ему на память этюд. Впоследствии, в 1899 г., отец шлет Айвазовскому посвященные ему стихи («Георгиевский монастырь»), а Айвазовский высылает ему «чудесную марину».
Из письма Айвазовского от 11 июня 1899 г. Жиркевичу: «В ваших стихах так много поэзии, они написаны с такой легкостью, что, читая их, в голове составляется картина. Такое же впечатление я чувствую, когда читаю Пушкина… Ну, об этом я не могу высказаться, как хотелось бы. Вчера, прочитав стихи, которые вам угодно было мне посвятить, я тут же написал маленькую картинку “Георгиевский монастырь в лунную ночь”».
Эта картина вставлена моим отцом в прекрасную раму и до сих пор хранится в нашей семье.
* * *
По дороге из Крыма отец заезжает на один день в Ясную Поляну. До этого он писал Толстому и получил от него разрешение на приезд.
В своих «Заметках» А. В. Жиркевич пишет: «Наконец-то я увиделся с Л. Н. Толстым! Только сегодня ночью я приехал из Ясной Поляны, где провел время с 10-ти утра до половины двенадцатого ночи. Пользуясь тем, что не все время в Ясной Поляне я был с Толстым и его семьей, я делал наедине карандашом заметки в свою дорожную записную книжку и теперь, вернувшись, в Москве, по этим записям и по памяти восстанавливаю мои беседы с Толстым». [31]
Отец записывает высказывания Толстого о литературе, поэзии, живописи, о суде и наказании. Эти подробные записи опубликованы в «Литературном наследстве» за 1939 г. [29] и в книге Жиркевича «Пасынки военной службы». В дневнике Л. Н. Толстого от 20 декабря 1890 г. записано: «Вчера приезжал Жиркевич. Добрый юноша».
А. В. Жиркевич был у Толстого три раза, переписывался с ним по поводу основанного в Ясной Поляне «Согласия против пьянства». [32]
Александр Владимирович принимал горячее участие в судьбе солдата Егорова, попавшего в Бобруйский дисциплинарный батальон из-за отказа по религиозным убеждениям от воинской службы. Отец старался спасти Егорова от зверств известного своей жестокостью начальника дисциплинарного батальона Успенского, а когда Егорова сослали в Сибирь — помогал ему материально. По этому поводу возникла у него переписка с Л. Н. Толстым, который тоже принимал деятельное участие в судьбе духобора Егорова.
* * *
В своих заметках Жиркевич сетует на нехватку времени для литературной работы: служба и постоянные командировки, заботы об имуществе жены — все это необходимо, хотя подчас и ненавистно. По делам службы Жиркевич часто встречается с прокурором-писателем А. А. Навроцким, автором знаменитого стихотворения, положенного на музыку: «Есть на Волге утес». Интересны записи об этом суровом с виду, но добром и честном человеке, очень противоречивом по взглядам, занимающемся спиритизмом и литературой.
* * *
Александр Владимирович, кроме своей семьи, содержит мать, бабушку и сестру. Приходится брать более высоко оплачиваемую работу помощника прокурора. «Не могу же я брать на их содержание денег у Кати!»
Запись в «Заметках»: «Я в первый раз обвиняю в суде! Никто не поверит, сколько мук душевных стоит мне переход от защиты к обвинению. Катя видит мою борьбу, но и ей я не говорю всей правды. Я убил бы ее, если бы сознался, что приношу себя в жертву моим родным, которым должен помогать…» И далее: «Я слабый прокурор… по двум делам я уже отказался от обвинения. Вчера обвинял двух разбойников. Главный разбойник Попов растравил мне душу. Он сидел, не поднимая глаз, с поникшей головой. А когда вошел мальчик, которого он с товарищем не дорезал, он с ужасом посмотрел на него. Мне кажется, это не окончательно падший человек; я надеюсь, что он поймет свое преступление. Когда я стал говорить в его пользу — в его глазах было дикое изумление… Мне больно за него. Господи! Помоги ему выйти на путь правды и добра! Присудили обоих к каторжным работам, но не так тяжко, как можно было ожидать. Я чувствую, что много таких дел и меня не хватит. Что со мной творилось — я весь дрожал, и мне хотелось плакать. Мне ужасно жаль Попова!» [33]
Изредка удается Александру Владимировичу вырваться в командировку или в отпуск в С.-Петербург, где кипит культурная жизнь, побывать у «доброго Ильи Ефимовича Репина», Апухтина, Герардов и других друзей, освежиться на выставках и концертах.
И снова Вильна, где мысль спит, где не с кем поговорить о литературе. «Даже Катя — умненькая и начитанная — остановилась на классиках и дальше не идет. А ведь живая мысль в журналистике!»
* * *
Идут годы… Рождаются дети. Их было у Жиркевича шесть человек. С восторгом встречает он появление каждого ребенка. Уезжая из дому, неизменно тоскует по «деткам и Каташечке». А в душе разлад. Теряется вера в свой талант, гаснут мечты «создать, что-либо великое»…
Умер маленький сынок… Репин, сочувствуя горю Жиркевичей, шлет им свой рисунок. «Дорогой Илья Ефимович прислал мне и Кате свой чудный рисунок “Христос, благословляющий детей”. [34] Без слез нельзя смотреть на Христа и окружающих его деток».
В 1899 г. Александр Владимирович собирается провести отпуск на Кавказе. «Перед поездкой на Кавказ пришлось выехать в Петербург. Остановился у Репина. Он показал мне картину “Искушение Христа”, спрашивал моего мнения… Показывая картину, Репин говорил, что ему не удается колорит неба. Во время обеда пришла мне мысль предложить ему ехать со мной на Кавказ, где он увидит картины неба в нужном ему освещении. Репин ухватился за эту мысль». [35]
Репин и Жиркевич путешествуют вместе на лошадях по Кавказу и возвращаются через Батум и Новороссийск пароходом.
По дороге Жиркевич читает Репину свои рассказы, из которых Репину особенно понравились «Наезд», «Около великого», «В госпитале». «Он искренне заявил мне, что эти вещи замечательные, оригинальные и создадут мне имя».
В 1899–1900 гг. Жиркевич издает книгу «Рассказы. 1892–1899 гг.». [36] На посланный Чехову рассказ «Против убеждения» получает пространное письмо с советами, как писать, чтобы было более убедительно и интересно.
В 1902 г. выходит его сборник стихов «Друзьям». Критика относится к сборнику по-разному.
Бывая в Петербурге, Александр Владимирович, по настоянию Репина, всегда останавливался у него. Гостил и в его имении Здравнёво.
В 1888 г. 8 августа Репин писал Жиркевичу: «Ваше прекрасное лицо, задушевный тембр голоса всегда внушали мне полную симпатию и безграничное доверие». В письмах он обращается к Жиркевичу: «Дорогой мой Александр Владимирович!», «Дорогой друг, Александр Владимирович!». Репин заезжал к Жиркевичу в Вильно с сыном, проездом за границу.
Дружба с И. Е. Репиным продолжалась девятнадцать лет. Репин искренне верил, что из Жиркевича выйдет большой писатель. Вероятно, поэтому Репин сделал с А. В. Жиркевича по своей инициативе четыре портрета. Но постепенно Репин, по-видимому, разочаровывается в Жиркевиче, так как последний, кроме названных выше поэмы, рассказов и стихов, больше художественных произведений не печатал. Понятна нарастающая досада и раздражение Репина. Кроме того, в 1905–1906 гг. Репин сочувствовал революционному движению, а Жиркевич прислал ему свои стихи: «У памятника Глинки» и «Воспоминания об Айвазовском», напечатанные в приложении к реакционной газете «Бессарабец». Это взорвало Репина: «Репин, которому я послал книжку “Друг” с моими статьями, выругал меня <…>. Он вообразил, что если я даю мои статьи “Другу”, то вполне солидарен с его редактором!!» — пишет отец в «Заметках». На этом их отношения оборвались. Отец искренне сожалел и охотно шел на примирение, прощая Репину грубый тон письма. Но Репин уклонился. (См. Приложение 1)
* * *
В 1900 г. в Вильно, предварительно сговорившись с А. В. Жиркевичем, присылает свои картины для выставки В. В. Верещагин. Отец принимает самое деятельное участие в организации выставки. Находит для нее помещение, развешивает со слугами Верещагина картины, пишет заметки о выставке, чтобы вызвать к ней интерес. «…А Верещагина все нет, и никто не знает, где он. Я выдал уже 200 р. из своих денег на расходы», — пишет отец в дневнике. И запись вечером: «Верещагин приехал! Придя утром на выставку, я застал его у картины — милого, сердечного, любезного и от души с ним расцеловался. Все недоразумения уладились в четверть часа». [37]
Верещагин бывает в доме Жиркевича, знакомится с его женой и детьми. «Моя Марфутка не хотела сходить у него с рук». Выставка проходит успешно. Она приносит Верещагину 1700 р. дохода. «Недурно для Вильны», — говорит Жиркевич. «Последние слова Верещагина, обращенные ко мне, были: “Ну, прощайте! Буду писать Вам с дороги. Пришлю Вам кусочек солнца”. <…> Войдя в вагон, он сказал: “Идите! А я буду следить, пока не исчезнет Ваша дорогая для меня фигура!” Мне было тяжело с ним расставаться, и я ушел не оглядываясь… Прошло с тех пор много времени, а от Верещагина ни слова! Новые впечатления заслонили ему меня, Вильно и мою Марфуточку». [37]
* * *
В 1901 г. отец едет лечиться в Германию в Вильдунген, а оттуда совершает путешествие во Францию, Австрию, Италию. Он в восторге от красот природы, старины, искусства, но из дому приходят письма с большим опозданием, и беспокойство о жене и детях отравляет его радости.
У меня сохранилось свыше 600 писем отца и матери. Из них много писем этого периода с интересными описаниями путешествий отца.
* * *
Бывая, как следователь, на гауптвахте, в камере № 14, где содержались подследственные, отец видит с ужасом, в каких условиях живут заключенные: без прогулок, без наблюдения врача. В камере грязь, вши, клопы, текущая параша, ужасный воздух, помещение не проветривается. Кроме подследственных, тут же находятся и уже осужденные за убийство. Больные сифилисом спят на одних нарах со здоровыми. Никаких книг, никаких развлечений. Жиркевич связывается с комендантом гауптвахты Шипиным с целью улучшить быт заключенных. Пишет большое «послание» и направляет его через Штаб Военного Округа Командующему войсками военного округа. «В результате гауптвахту почистили, урегулировали вопрос с баней, с посещением врачей» («Пасынки военной службы». Вильна. 1912 г.). Книги, по военному уставу, можно было раздавать только религиозные. Жиркевич на свои личные средства создает библиотеку, в которую приносит, кроме книг религиозного содержания, и учебники, советуя грамотным учить неграмотных, и таким образом дает заключенным какое-то занятие. Но всего этого очень мало, чтобы сделать жизнь на гауптвахте более-менее сносной.
В 1902 г. отец едет с докладной запиской к военному министру Куропаткину. В своей записке он рассказывает об ужасных условиях, в которых живут заключенные на гауптвахтах-«клоповниках», в карцерах без света, без прогулок, в грязи… Его любезно приглашают на прием. Куропаткин выслушивает его, туманно обещает разобраться. Но дело так и не двигается с места. Два раза отец приезжает в Петербург, пишет в разные инстанции, но все остается по-прежнему.
* * *
В 1903 г. умирает от туберкулезного менингита его одиннадцатилетняя дочь… «В ночь с 23 на 24 августа умерла наша чудная, добрая, умная Варюша — после долгих страданий. И мы с бедной Катей пережили ужас болезни и ужас смерти <…> Боже, Боже!!! Сколько любви было вложено в это дитя и сколько любви оно вносило в нашу жизнь! И мы еще живы с Катей… а дорогая наша птичка, наша гордость не с нами!» [38]
Оставаясь религиозным, Жиркевич пишет: «Смерть детей встает между мной и Богом. За что страдают дети?»
* * *
Часто возникают у Жиркевича недоразумения с начальством. Вот случай, когда под суд попадает офицер за нанесенье увечья солдату: начальство советует «мягче судить офицера» или «снять обвинение». Но возмущенный Жиркевич — враг рукоприкладства, судит строго и пишет с удовлетворением в «Заметках»: «Быть может, с точки зрения учения Христа, это нехорошее чувство, но порой приятно скрутить мерзавца, дать ему почувствовать, что не всякий произвол и насилие остаются безнаказанны и что есть на свете справедливость». [39] И таких дел немало в его практике.
В 1903 г. в военном госпитале он обнаруживает глубоко возмутивший его случай. Психически здорового жандарма Николаева засадили в отделение для сумасшедших, а так как он сопротивлялся, сторожа, надевая на него смирительную рубашку, зверски избили его, сломав ему ребра, в результате чего он умер. Жиркевич поднимает целое дело против врачей и порядков военного госпиталя. «Пришлось вырывать и вторично вскрывать труп погибшего. И какой мирок военно-врачебных душонок я открыл! Что за бессердечие и подлость!» [40]
В результате поднятой истории в военном госпитале срочно наводятся порядки, и присланная комиссия не находит упущений. Происшествие замазывается, а Жиркевича как неудобного человека переводят в Смоленск. «Мерзавцы, меня разлучающие с городом, наносят моему сердцу жестокую рану <…> Но, хотя бы меня сослали в Якутск, я буду все-таки говорить, что дело <…> Николаева — грязное, возмутительное дело», — записывает отец.
В Смоленске Жиркевич пробыл четыре года. Ему неоднократно предлагают повышение, но он отказывается, все время стремясь обратно в Вильну.
Под городом Красным Смоленской губернии нашел он забытую могилу русских героев 1812 г., поднял вопрос о ее восстановлении, сделал сбор пожертвований и добился установки на ней подобающего памятника.
Кроме основной работы отец работает в обществах Белого и Красного Крестов, на постройке больницы, школы. Он попечитель тюрьмы и детского приюта и участвует в сборе средств для этого приюта.
* * *
В мои детские годы помню оживленную суету в нашем доме в предпраздничные дни. Громадные бельевые корзины, полные свежих булочек, куличей, яиц ставились на извозчичью пролетку и развозились отцом с матерью в тюрьмы и приюты. Мать устраивала на Рождество елку для бедных детей с подарками и угощением. Она любила доставлять радость другим, вспоминая свое грустное детство. Отец моей матери Екатерины Константиновны Снитко умер, когда дети были еще маленькие, а мать ее, наша бабушка, тяжело болела чахоткой и умерла, когда Кате и Андрюше было по 13 лет.
Но нам мать с отцом постарались создать золотое детство. Нас не баловали, нет, но мы были окружены большой любовью и вниманием.
Родители старались дать нам разностороннее образование. Нас учили языкам, музыке, лепке, рисованию. И все это было так интересно! Много радости доставляли зверьки, игрушки и книжки, даримые нам в праздники, а чудесные традиции Рождества и Пасхи оставили незабываемые воспоминания.
Предки матери были униаты. Отец ее и мать православные. В семейных традициях бытовало много разных обрядов. В сочельник и мама, и прислуга не ели ничего до первой звезды. Затем большой стол в столовой раздвигался и покрывался соломой (в память рождения Христа на соломе в яслях), а сверху белоснежной скатертью. Подавался обед, на котором присутствовали и хозяева, и прислуга… Стаканы качались, опрокидывались на солому, суп проливался, к великому удовольствию детей… Отец сидел во главе стола, большая салфетка, заткнутая за воротник, закрывала ему грудь — это по требованию мамы, иначе за разговорами он заливал китель супом. Наши славные кухарки и няня шептали свои католические молитвы, свет долго не зажигался, и в окно смотрели первые звезды… А потом елка до потолка, украшенная не покупными игрушками, а сделанными, под руководством мамы, самими детьми из ваты, бумаги, коробочек, шишек, скорлупок. Много игрушек, сделанных еще в прежние годы талантливой воспитательницей мамы В. И. Пельской, которые наша мать очень ценила и берегла. Заворачивались финики в цветные бумажки в виде хлопушек и инжир, который тогда называли фигами. Вешались на ниточках конфеты, мармелад, яблоки, мандарины.
Еще была традиция ставить башмачки перед камином под Рождество. По-моему, эта традиция пришла к нам с Запада. Теперь во всех семьях делают подарки детишкам под Новый год, а в нашем детстве это было принято не везде… Родители говорили, что придет добрый Дед Мороз, только надо не закрывать вьюшку у камина или форточку. Мы подозревали, что это и не Дед Мороз, а, может быть… папа. Уж очень хитрый вид у него бывал в Рождественский сочельник. Мы, дети, сговаривались не спать, подстеречь Деда Мороза или папу… и засыпали в конце концов. А утром какие-нибудь крошечные куколки, шоколадки, коробочки оказывались в наших тапочках.
* * *
В весенний праздник Пасхи были свои традиции. Тут уже верующие постились не до первой звезды, как на Рождество, а позволяли себе «вкусить пищу» лишь ночью, по возвращении из церкви.
Нас укладывали спать пораньше, а часов в 11 ночи поднимали, и к 12-ти мы были уже в церкви. Трогательна была наша детская вера и восторженные чувства, когда после тишины и ожидания в церкви — раскрывались двери алтаря и священник торжественно провозглашал: «Христос Воскресе!»
Отец не входил в церковь, но он любил постоять где-нибудь снаружи храма, послушать красивые церковные напевы, вспомнить свое детство. Вот как он, уже будучи стариком, в письме ко мне от 16 мая 1926 г. из Вильны описывает свои чувства в пасхальную ночь: «Я стоял под деревьями, когда проходил крестный ход и пели первое “Христос Воскресе!”. Все было убого, но искренне и поэтично. Никто меня в полумраке не видел, и я мог плакать свободно — о прошлом, о Родине, о тех, кто уже не встретит со мной Светлый Праздник». [41]
Но вернусь к своим детским воспоминаниям… По возвращении домой мы «разговлялись» — садились все за стол, красиво убранный, уставленный всевозможными яствами — банкухенами (сооружение из теста, но полое внутри), мазурками (польский сухой торт, обсыпанный разноцветными крупинками), куличами, пасхой, яйцами. Нам, детям, очень нравились тарелочки, на которых был заранее посеян овес, и в зеленую травку клали разноцветные яйца. А некоторые бутылочки оборачивались ватой, поливались водой и в вату сеялся кресс-салат. К празднику кресс-салат прорастал, появлялись крохотные листочки, и вся бутылка становилась зеленою.
На Пасху все дарили друг другу яйца: вареные, но красиво раскрашенные, или фарфоровые, деревянные — очень нарядные. В этот праздник, как и на Рождество, развозили родители подарки заключенным и приютским детям.
И в Смоленске продолжает отец собирать старину, картины. Счастлив, что удалось купить портреты князей Голицыных. [42] (Эти портреты переданы в фонды Литературного музея Л. Н. Толстого в Москве.)
Интересуясь археологией, он участвует в раскопках курганов под Смоленском. В поисках исторических документов Жиркевич роется в пыли и грязи брошенных архивов Смоленска и Вильны, иногда на рынке у торговцев приобретает ценные бумаги, в которые заворачивали гвозди или селедку, и найденные документы передает в музеи.
На чердаке бывших конюшен губернаторского дома в Вильне он находит много брошенных бумаг, относящихся к польскому восстанию 1863 г. На основе собранных и пожертвованных документов создается музей памяти М. Н. Муравьева. «Я вовсе не имел целью создать хвалу Муравьеву, но стремился создать музей, в котором были бы собраны все за и против, чтобы будущий беспристрастный историк мог сказать свое слово», [43] — пишет отец в своих мемуарах. (См. Приложение 2)
Также содействует он и созданию музея при военном собрании в Вильне, где хотел собрать и показать орудия телесных наказаний, против которых всегда боролся.
Найденные интересные документы, имеющие ценность для поляков, посылает в Краков, в Ягеллоновскую библиотеку.
Во многие архивы и музеи Северо-Западного края передавал отец найденные документы. Все, что он собирает, предназначается для будущей истории — «чтобы не пропала старина». И его дом тоже превращается в музей. Много здесь подаренных картин с дружественными надписями и приобретенных у антикваров.
В гостиной висит портрет П. В. Кукольника работы К. Брюллова, портрет Жиркевича работы Репина, его же «Дуэль», картины Айвазовского, Сверчкова, Зырянки, Дубовского, Нестерова и др. Много картин иностранных художников (в 1922 г. все эти картины отец передал в Ульяновский художественный музей.)
Вспоминаю сплошь завешенные картинами стены, и, когда на стенах места не хватало, картины вешались даже на дверях, при слабых протестах мамы. В углу гостиной стояла фигура японского самурая в латах и полном вооружении — вечером проходить мимо самурая было страшно… В стеклянных шкафчиках стояли бронзовые колокольчики, цветные шишечки от японских шапочек, бронзовые изящные фигурки. В кабинете отца висел ковер — на нем древнее оружие. Все это можно было рассматривать часами.
* * *
Весной 1908 г. отца наконец возвращают в Вильну на должность судьи. Назначение состоялось в мае 1908 г., а в ноябре того же года, прослужив недолго в должности военного судьи (из этого времени надо исключить три месяца, проведенных в отпуске), отец подает в отставку.
Причиной выхода в отставку было то, что, ознакомившись как военный судья с секретными приказами, циркулярами и инструкциями, исходившими из Главного военного судебного управления под давлением Министерства внутренних дел, Жиркевич не захотел разбирать дел по политическим преступлениям под пристрастным, несправедливым нажимом начальства и выносить явно несправедливые смертные приговоры. [44] По этому поводу у него произошел ряд конфликтов с военно-судебным начальством, в том числе с бароном Э. Р. Остен-Сакеном. Надо заметить, что в это время царское правительство свирепствовало, расправляясь с участниками революции 1905 г., и пользовалось военными судами для широкого применения смертной казни революционной молодежи. Жиркевич считал это несовместимым со своей совестью. Он выходит в отставку с производством в генерал-майоры, но с небольшой пенсией. (Об отношении А. В. Жиркевича к смертной казни см. Приложение 3).Отец всегда был противник смертной казни и, будучи прокурором и судьей, не запятнал себя ни одним смертным приговором. Не раз писал он прошения на высочайшее имя, стараясь спасти осужденного на казнь.
В одном из его альбомов хранится запись известного еврейского деятеля (ученого, писателя), друга Жиркевича Ф. Б. Геца, в которой тот описывает, как Жиркевич спас от смертной казни двух евреев, осужденных военным судом.
«Одно воспоминание. Из более двадцатилетнего знакомства с вами, глубокоуважаемый Александр Владимирович, сохранилось в моей памяти немало ваших деяний, красноречиво свидетельствующих о вашем естественном влечении к безукоризненному добру и неподкупной правде. Но наиболее памятно мне ваше столь же великодушное, сколь и успешное заступничество за двух евреев, невинно осужденных к смертной казни за обвинение в совершении экспроприации разбойнической. До гроба не забуду, с каким благородным рвением вы взялись за изучение их дела, чтобы убедиться в их действительной невиновности. Я живо припоминаю, как вы обрадовались открытием, что это дело велось крайне пристрастно председателем Варшавского военного окружного суда, который был вам известен как горький пьяница, что без всякого основания не были вызваны свидетели защиты и что оказались, по вашему пониманию и опыту, еще другие существенные упущения в ведении всего этого рокового процесса.
Осчастливлен этим неожиданным открытием, вы с полной уверенностью в опрометчивости судебного приговора отправились к генерал-губернатору, который должен был конфирмовать этот вопиющий вердикт, и вам удалось убедить его воздержаться от этого решительного акта, предложив ему подписать составленный вами текст телеграммы на имя Председателя Совета министров Столыпина о замене смертной казни каторгою, чтобы иметь возможность при известных обстоятельствах подвергать это дело пересмотру, чего вы и добились. Я не нахожу слов, чтобы описывать ваше счастье и вашу радость, когда вы примчались ко мне, чтобы сообщить мне эту радостную весть, как будто речь шла не о совершенно вам неизвестных евреях, а о близких родственниках, особенно дорогих вашему чуткому, любвеобильному сердцу, как вы, сияющий от радости и счастья, меня обняли и целовали за то, что я вам дал возможность спасти невинных людей от виселицы. Моя ныне покойная незабвенная жена и я, увидев ваше <…> вдохновение и увлечение актом человечности высшего порядка, были тронуты до слез и не могли достаточно удивляться вашему душу возвышающему благородству и вашей беспредельной доброте.
Могилевская губерния. 13. 11. 1916. Ф. Гец».
Уйдя в отставку, отец продолжает заниматься общественной деятельностью, попечительствуя в тюрьмах и приютах.
* * *
Я была младшей дочерью в семье и помню отца уже пожилым, полным, с густыми седыми усами. Наверно, будучи в отставке, нам, младшим детям, он уделял больше внимания. Очень любили мы прогулки с отцом. Вильно был тогда небольшим городком, и можно было, гуляя, попасть с улицы Большой Погулянки, где мы жили, прямо в чудесный лес Закрет или проехать на конке к нашей бабушке на Антоколь (теперь Антокальнис). Отец купил ей домик с маленьким садиком, примыкавшим к горе с сосновым бором и военным кладбищем. На кладбище похоронена была его любимая бабушка Мария Осиповна Астафьева. Весной вся гора покрывалась фиалками, которые мы собирали… Потом мы жили на набережной реки Вилии в доме № 12. Отсюда мы совершали прогулки на гору Гедемина, которую тогда называли просто Замковая Гора, и собирали там блестящие каштаны. Ездили с родителями в дачное место Верки на маленьком пароходике по реке Вилии. Вот это был праздник! Отец делал нам из бумаги птичек и бабочек, которые на ниточках летели сзади нас, когда мы носились по Верковскому парку.
Нас не баловали конфетами и фруктами, поэтому иногда было приятно заболеть. И вот уже папа несет виноград или халву, садится у постели, читает болеющей книжку или рассказывает сказки.
Когда мы были здоровы, мама устраивала нам «душеспасительные чтения», как, посмеиваясь, называл это отец. Из читаемого нам мне запомнилась книга (не знаю, кто был автор ее), называлась она «Во время оно» и повествовала о первых годах христианства. Книга была большая, и чтение ее продолжалось не один месяц. Мы, дети, сидели за столом и что-нибудь мастерили, а мама читала нам вслух. Бывало, приходил и отец послушать чтение и посидеть с нами.
Иногда в свое свободное время отец усаживался с нами перед камином. С волнением, сидя у его ног на ковре, слушали мы нескончаемые приключения «Макаки с макаканятами и Белочки Бобочки» — сказку отца, которую он всегда прерывал на самом интересном месте: «Деткам пора спать!» Иллюстрациями к сказкам служили вырезанные из многократно сложенной бумаги фигурки. Особенно нравились нам вырезаемые отцом чертенята. Все они в развернутом виде держались или за руки, или за хвосты и смешно корчились, поставленные на угольки в камине.
Любя животных, родители и нас приучали жалеть и любить их. Всегда у нас жили какие-нибудь птички или зверюшки. На даче бегали по комнате белочка или ежик, даже как-то принесли нам деревенские мальчишки зайчика… Потом зверюшки убегали или мы сами отпускали их в лес.
Каждая из нас, дочерей, должна была ухаживать за своей птичкой. Всегда были собаки. Наша последняя собачка Мася была вывезена нами из Вильны в 1915 г. и привезена в Симбирск, где пережила с нами всю тяжесть военного времени и погибла в голодные годы. Отец делился с ней своим хлебом. В своей биографии он трогательно пишет о ней, как о человеке.
* * *
Отец возмущался тяжелым положением евреев. В Смоленске в 1905 г. он срывал со стен домов призывы к погромам. Увидев еврейскую девочку, преследуемую мальчишками, забрасывавшими ее грязью, отец разгоняет маленьких погромщиков и отводит девочку домой. Об этом я слышала разговоры в нашей семье, а потом и сама прочла в автобиографии отца.
В доме у нас служили няни-польки, и мама всегда в католические праздники отпускала их в костел и делала им красивые подарки — платочки или ткани. Верхнюю одежду отцу и нам шил пожилой еврей, к которому была очень привязана моя сестра. Увидя его у мамы, она бежала к нему и иногда, подбегая сзади, целовала в ту часть тела, которая соответствовала ее росту, чем очень смущала старика. «Уф! Прямо в спину!» — говорил он. Мама сажала его пить чай, что, по-видимому, было ему приятно. Отношение наших родителей к полякам и евреям и в нас воспитывало уважение к людям другой национальности и другого вероисповедания.
* * *
Лето мы проводили всегда где-нибудь на даче под Вильной. Отец приезжал в воскресенье, так как, несмотря на отставку, был очень занят работой попечителя над тюрьмами и приютами. Лучше всего нам жилось на даче у маминого брата дяди Андрюши. Мать и дядя Андрюша нежно любили друг друга, а мы просто обожали добрейшего дядю. Но отец считал, что если мама, как родная сестра дяди Андрюши, и может жить на его средства все лето, то ему это неудобно, и не ездил с нами, очень в то же время тоскуя без нас.
Имя Андрея Константиновича Снитко — нашего дяди Андрюши — ныне занесено в Белорусскую Энциклопедию как человека, много сделавшего для повышения культуры Белорусского края и улучшения быта крестьянства.
* * *
В 1912 г. в нашу семью приходит великое горе. Скоропостижно умирает 22-х лет наш старший брат Сергей. Через много лет пишет в своей автобиографии отец: «Самым счастливым днем моей жизни было рождение сына Сергея и самым черным днем была его смерть». Но кругом столько несчастных, столько несправедливостей… Надо помогать людям, и это дает силы жить и отвлекает от личного горя.
Отец издает книгу «Пасынки военной службы», посвящает ее сыну и начинает ее словами: «Продиктованное смертью вступление. Я мирно заканчивал рукопись настоящей книги, когда со мной случилось неожиданно величайшее несчастие, какое только могло постичь меня и мою семью: 3 мая скончался скоропостижно от какой-то невыясненной болезни в Кронштадте, во цвете сил, надежд, дарований, земного счастья, в пылу энергичной служебной деятельности, единственный, любимый сын мой — юный моряк, мичман Сергей, которого я всегда мечтал видеть наследником моих научно-культурных начинаний — их продолжателем…» [45]
В книге «Пасынки военной службы» отец рассказывает об ужасах гауптвахт, о своей борьбе за улучшение быта заключенных, о равнодушии начальства и т.д.
* * *
Посещая тюрьмы в качестве попечителя, Жиркевич наталкивается на дело старца Зосимы, присужденного к каторжным работам. Арестанты зовут Зосиму «тюремным крестоносцем». Отец, убедившись в физической немощи Зосимы и невозможности им совершить те преступления, которые ему приписывались, в долгих беседах с ним открыл для себя его душевную чистоту и уже после смерти Зосимы выяснил, что он не был ни разу освидетельствован врачами. Жиркевич едет в Пермь, [46] достает дело старца Зосимы, целую неделю переписывает его по ночам и на основе дела пишет книги «Жизнь во Христе старца Зосимы» и «Архимандрит Зосима (в мире Дмитрий Рашин) был не виновен», и рассылает свои книги многим высокопоставленным лицам. Этим он обращает на это дело общее внимание и восстанавливает доброе имя Зосимы.
* * *
В 1915 г., во время войны с Германией, Жиркевич с семьей эвакуируется в г. Симбирск, где у него был родственник — двоюродный брат жены художник П. И. Пузыревский. С большими трудностями вывозит он лучшую часть своих коллекций, свой архив, картины, но многое брошено в Вильне.
Симбирск в 1915 г. нас всех очаровал. Город-сад. Весной глядишь с реки на гору — она вся розовая от цветущих вишен и яблонь. Тихий провинциальный городок. Идешь, бывало, по главной улице города — Гончаровской — везде сады, поют соловьи и возвращаются с пастбищ коровы… А какой вид с горы на волжские дали, заливные луга, песчаные и лесистые острова! В разлив все это стоит в воде, и едешь на лодке, между деревьями, как в каком-то сказочном лесу. И Волга — как море.
Мы переменили несколько квартир и, наконец, поселились на Комиссариатской улице, дом № 6 на втором этаже с большой террасой, выходящей на зеленый двор и сад, где нам разрешалось гулять и где весной чудесно в кустах сирени пел соловей.
* * *
Приехав в Симбирск, Жиркевич и здесь начинает свою общественную деятельность, приняв почетную, хоть и без оплаты, должность попечителя симбирской каторжной тюрьмы, женской тюрьмы и исправительного арестантского отделения. [47] Он устраивает в тюрьмах чтения, собеседования, после которых принимает от заключенных заявления об облегчении их участи или о бедственном положении их семейств. Хлопочет о снятии кандалов с больных арестантов.
О деятельности Жиркевича в женской тюрьме на Старом Венце написана большая статья в «Епархиальных Ведомостях» (1916, № 20), названная «Лучи света». В ней автор пишет: «Нынешняя великая война, всколыхнувшая Русь от края до края, забросила в Симбирск в августе 1915 г. человека, сумевшего в короткое время переделать жизнь тюрьмы на иной, светлый лад, — генерала Жиркевича, вынужденного эвакуироваться сюда из Вильны». Далее рассказывается, как Жиркевич вместе со священником Цветковым создали в тюрьме церковь. На средства Жиркевича и его жены куплен колокол, устроена больничка на несколько коек, у дверей тюрьмы появился ларь с трогательным воззванием. Ларь, в который стали тотчас же опускаться булки, баранки и другие припасы для больных и детей арестанток, приносимые добрыми обывателями Симбирска. Задуман приют, чтобы отделить детей, которые жили с матерями в тюрьме, и создать им нормальные условия.
В тюрьме Жиркевич натолкнулся на слепых арестантов, отбывающих каторжные работы. Среди них был слепой сапожник Соколов, обвинявшийся в политическом убийстве. Жиркевич подал министру юстиции мотивированное юридическими доводами заявление и доказал незаконность содержания на каторге ослепшего Соколова. Оказалось, что таких арестантов много и по другим губерниям России. Всех их освободили и разместили по богадельням, в том числе и двух из Симбирска (третий умер, не дождавшись свободы). С Соколовым и после его освобождения Жиркевич поддерживает переписку. [48] Тогда же, в 1915–16 гг., Жиркевич поднял в Министерстве юстиции вопрос о тех узниках, которые из-за негигиеничных условий тюремной жизни начинают слепнуть; добивался принятия мер для предупреждения этого зла. В его архиве сохранялась переписка об этом.
Вскоре по приезде в Симбирск Жиркевич и его жена стали посещать «Убежище для слепых детей и подростков», устраивали там чтения, носили угощения и подарки по праздникам. Жиркевич списался с Петербургским обществом покровительства слепым и выхлопотал присылку новых книг с выпуклым шрифтом для библиотеки слепых. Слепые дети узнавали Жиркевича и его жену по голосам и встречали их радостными криками.
Поместив слепого Соколова в богадельню и ознакомившись с ее бытом, отец старается по возможности улучшить жизнь ее обитателей. В отдельных случаях своей борьбы с начальством за участь арестованных Жиркевич обращается в Петербург, в частности, к Ан. Ф. Кони.
* * *
Главной работой своей жизни отец считал свои труды по облегчению пребывания узников в дисциплинарных батальонах. У него скапливается все больше и больше материала. И в Симбирске, путем переписки, он пополняет свое исследование, которое собирался издать и которое, по его мнению, должно было сделать переворот в этом деле. Задумана была большая книга с иллюстрациями, заказанными художнику П. Яковлеву, на которых изображены были страшные сцены — запоротый солдат, розги, заключенные за решеткой в товарном вагоне, ссыльные и их прощание с семьей перед отправкой на каторгу и т.п. С наступлением революции все это уже не понадобилось и осталось в его архиве.
* * *
Вскоре после приезда в Симбирск Жиркевич был назначен инспектором лечебных заведений (тоже неоплачиваемая должность). В его ведении было десять военных лазаретов: на Новом Венце (в Гончаровском доме), в Дворянском собрании, в Александровской больнице, Чувашской школе и других местах. На благотворительные деньги Жиркевич устроил у себя склад махорки для даровой раздачи нижним чинам. Раздавал и книги, помогал раненым иногда и деньгами из своих средств.
Увидев однажды, как хоронят солдат, возмущенный Жиркевич вмешивается и добивается, чтобы солдат хоронили не голыми, везя на телеге из-под навоза, а одетыми, с воинскими почестями, на приличном катафалке, в присутствии священника и ставили крест, а не сваливали в общую могилу.
Работая попечителем тюрем и лазаретов, Жиркевич бывал в здании Чувашской школы, где помещался военный лазарет, и познакомился там с ее инспектором — замечательной личностью Иваном Яковлевичем Яковлевым — просветителем чувашского народа. [49] Узнав о его прежней деятельности и необычайной судьбе, отец уговаривает Ивана Яковлевича писать мемуары, но тот не хочет, долго отговариваясь старостью и болезнями. Тогда отец предлагает ему безвозмездно свою помощь: Иван Яковлевич будет устно вспоминать — Жиркевич записывать. Наконец Иван Яковлевич соглашается, и начинается поистине титанический ежедневный, по несколько часов в день труд, который длился четыре с лишним года, был закончен, передан Жиркевичем сыну Ивана Яковлевича — Алексею Ивановичу и посвящен чувашскому народу.
Вспоминаю, как Иван Яковлевич приезжал в своей пролетке к нам на Комиссариатскую улицу. Помню его грузную старческую фигуру, с трудом сходящую с экипажа. Мы жили на 2-м этаже, и Ивану Яковлевичу трудно было к нам подниматься. Поэтому по большей части работа шла на дому у Яковлевых. Отец забирал меня с собой, и мы шли через весь город в Чувашскую школу, где жил Яковлев. Пока отец увлеченно работал с Иваном Яковлевичем, я, дружившая с его внучкой Катей, [50] бегала с ней на речку Свиягу купаться или кататься на лодке. По возвращении нас поила чаем любезная хозяйка, жена Ивана Яковлевича, Екатерина Алексеевна. В доме Яковлевых приглашали часто молодежь, и Екатерина Алексеевна устраивала для внучек вечера, где ставились спектакли силами детей и взрослых, играли на рояле… Иногда и отец с Иваном Яковлевичем присутствовали на вечерах в качестве зрителей.
Мемуарами отец и Иван Яковлевич начали заниматься с 1918 г. и продолжали, несмотря на революцию и гражданскую войну. Оба они так погружались в работу, что не замечали, когда во время гражданской войны бомбили город и рвались невдалеке от дома снаряды. [51]
Познакомившись с Чувашской школой и ее интересными людьми, Жиркевич организует открытие историко-этнографического музея при Чувашской школе на основе коллекций учителя В. Н. Орлова, куда вносит и свой вклад. Кроме устройства музея и посвящения чувашскому народу воспоминаний Яковлева, как своего труда, Жиркевич устроил в Чувашской школе, в образовавшихся из нее учебных заведениях, ряд лекций для чувашской молодежи: о Толстом (по своим личным воспоминаниям), о значении археологии, музеев вообще и учрежденного им чувашского музея в частности.
В большой дружбе был Жиркевич с интересной личностью — доктором психиатром В. А. Копосовым, директором Карамзинской колонии душевнобольных. Не раз пешком весной или осенью ходил отец в колонию, находившуюся в нескольких верстах от Симбирска. Многие больные и выздоравливающие его знали, беседовали с ним, дарили ему свои стихи и рисунки. А он одаривал их, чем мог: бумагой, карандашами, книжками, махоркой. Заботился отец и о могилах своих знакомых из Карамзинской больницы. Любовался дивными приволжскими видами и слушал рассказы старого доктора об интересных встречах за границей и его деятельности.
Любил бывать отец и у Дмитрия Ивановича Архангельского — пейзажиста, которому симпатизировал как человеку и чьи акварели всегда очень нравились ему. Весной в доме Архангельского на горе, в окружении цветущих яблонь и вишен, часто засиживался он за стаканом чая в беседе об искусстве.
* * *
В 1917 г., во время революции, из Симбирска бегут в панике «бывшие люди». Жиркевичу предлагают тоже при наступлении красных уехать, но он не хочет никуда уезжать из России. «3ачем? — говорит он. — Я никогда не делал подлости народу, мне нечего бояться».
В Симбирске меняются власти — белые, красные, чехи, снова красные. Жиркевич, не имея другой одежды, расхаживает по городу в генеральской шинели и лампасах, вызывая удивление и недоверие. Три раза его арестовывают по подозрению — не шпион ли он белых или не прячет ли у себя шпионов? Но всякий раз отпускают, хотя один раз пришлось вмешаться Ивану Яковлевичу, который поручился за благонадежность отца.
В годы революции заразился отец черной оспой. Переболел он ею в сравнительно легкой форме. Мама каждый день ходила в больницу и, заглядывая в окна первого этажа, видела отца. Вернувшись из больницы, отец рассказывал, что видел во сне старца Зосиму и верил, что это благодаря его молитвам он выздоровел.
Вспоминая нашу жизнь в Симбирске того времени, скажу, что, несмотря на нужду и лишения, отец с матерью жили удивительно дружно. Мы никогда не слышали, чтобы они ссорились. Единственно, что вызывало неудовольствие отца, это были дни уборок. С утра мать начинала дипломатические разговоры с отцом. «Сашурочка, ты сегодня куда-нибудь пойдешь?» — «А что?» — подозрительно спрашивал отец. — «Да так…» Стоило отцу выйти за дверь, как мама с нашей прислугой Марьей, приехавшей с нами в Симбирск из Вильны и жившей у нас уже семнадцать лет как свой человек, принимались за уборку комнат и мытье полов. Иногда все проходило хорошо. Но иногда отец неожиданно возвращался, что-нибудь забыв, и тут начиналось: «Развели тут грязь! — шагая через лужи по комнате взад и вперед и мешая женщинам, сердито говорил отец. — На столе все бумаги перепутали! Ведь просил не трогать ничего!» А на столе у него всегда лежал ворох бумаг, который матери казался беспорядком, но в котором отец как-то разбирался. В конце концов мама всегда покоряла отца своей кротостью. Поворчав и не встречая возражений, он быстро остывал, и в доме водворялся мир.
Наша прислуга Марья нашла в Симбирске свое счастье и вышла замуж за вдовца. Мы все присутствовали на ее свадьбе. Мама подарила ей свое подвенечное платье, которое хранила как память… Без Марьи маме пришлось трудно. Мы все учились в дневные часы, а нужно было ходить на рынок за картошкой, овощами, покупать вязанки дров. Мама рассказывала: «Накуплю всего и думаю — как дотащу? И вдруг из-за угла выходит мой ангел-хранитель Сашурочка и помогает мне». Но у папы был порок сердца, и мама старалась все делать сама.
Жили мы с 1918 г. в двух разделенных аркой комнатах. Спали все в одной. Отец — за занавеской. Половина комнаты была завалена тюками с папиными альбомами, мемуарами и письмами. Перед ними стоял папин письменный стол, а в углу — параша, заменявшая нам уборную, так как в это время ни водопровод, ни уборные не действовали. Парашу выносил отец — мы, девчонки, стеснялись.
С 18-го по 21-й год, когда не было ни топлива, ни еды, в соседней комнате стояла железная печурка, на которой и кипятили чайник и варили каши из овса или ржаной муки — «саламату», казавшуюся необычайно вкусной, если удавалось раздобыть и подлить в нее постного масла. Печку топили, чем попало, — щепками, тряпками и разбирали соседние заборы. К ночи печка остывала, и приходилось ложиться спать в валенках и пальто. Мыла не было, да и в таком холоде мыться нельзя было. Развелись в невероятном количестве вши, которых без мыла и кипячения белья невозможно было вывести.
В городе свирепствовал сыпной и брюшной тиф. В нашей семье брюшным тифом тяжело болела я. А мать надорвала здоровье тяжелой работой, переживаниями, связанными с арестами отца, его болезнью и моей, когда ей казалось, что она и меня потеряет, как других детей. У нее развилась тяжелая болезнь сердца, начались приступы астмы, а потом водянка. Ее страдания облегчали грелки, и, чтобы согреть самовар, мы с сестрой собирали на улице всякий мусор.
В то время в Поволжье был страшный голод, и нам выдавали по восьмушке хлеба в день. Мама уверяла, что ей плохо от черного хлеба, и всячески старалась отдать нам свою порцию.
Из дома продавалось, менялось на продукты, на хлеб и молоко — белье, одежда, мамины украшения… Но продать или обменять что-либо из папиных коллекций никому не приходило в голову. Все знали, что это собиралось для Родины и не может быть передано в чужие руки… А между тем американцы, организовавшие в то время Помощь голодающим Поволжья — «Ара», как это называли, — узнав о коллекциях отца, предлагали продать хоть часть картин и сулили большие деньги. Но отец решительно отказался.
Когда устанавливается советская власть, отец поступает работать: он учит грамоте красноармейцев и преподает грамоту на командных курсах. Учительствует в школе кожевенного производства, читает лекции, но все это временные и краткосрочные работы… Мы постепенно приспосабливаемся к жизни. Отец работает, сестра Катя дает уроки и получает в уплату продукты. Старшая сестра уехала учиться в Москву и зарабатывает себе сама на жизнь тяжелым физическим трудом. [52] Я ведаю хозяйством и ухаживаю за больной матерью. Научились обходиться без мыла. Варится зола, из которой получается едкий щелок, и хоть на руках после стирки в таком щелоке облезала кожа, но избавились от насекомых. Заводим на общественных началах огород у реки Свияги.
* * *
В 1921 г. 26 октября умирает в тяжелой обстановке нужды наша дорогая мама, любимый друг и помощник отца… В своей автобиографии отец пишет, что «со своей женою он был счастлив, как только может быть счастлив человек, найдя в ней, прежде всего, друга, прекрасную женщину и достойную мать своих детей».
После смерти мамы отец очень тосковал и всю свою нежность перенес на нас. Любя всех дочерей одинаково, он особенно жалел меня, самую младшую, неустроенную в жизни, что его очень беспокоило. Старшие сестры нашли свою дорогу: одна — учась в университете, другая — занимаясь медициной, [53] уже немного зарабатывали себе на жизнь. Я же занималась музыкой, но еще была в начале пути. [54]
Вероятно, искусство особенно и сблизило меня с отцом. У нас бывали с ним продолжительные разговоры о поэзии, о музыке, живописи. Я делилась с ним прочитанным. Помню, в какой восторг он пришел, когда я достала ему «Жана-Кристофа» Ромена Роллана. Тогда впервые прочел он это произведение. Отец очень радовался, что я посвятила себя музыке. Восторгался моей, конечно, далекой от совершенства игрой, находя главным ее достоинством — чувство. Когда приезжали в Симбирск какие-нибудь артисты — друг ли отца скрипач М. Г. Эрденко, братья Роберт и Рафаил Адельгейм или певица Анна Алексеевна Коломийцева, отец всегда старался провести нас на концерты, доставая нам контрамарки.
* * *
Отец любил работать в ночные часы, когда ничто не мешало думать и вспоминать… Ему не спалось, и он садился за письменный стол, когда за окном была еще ночная тьма. Бывало, проснешься, откроешь на минутку глаза — мягко светят лампа, затемненная бумагой, и освещает лицо отца. «Который час?» — «Спи, спи, четыре часа, еще рано, детка!»
Мне кажется, отец был большой оптимист. Я не помню его жалоб в тяжелые годы гражданской войны, когда мы так нуждались и когда вообще ничего нельзя было купить. Гуляя по улицам, он, нисколько не стесняясь, подбирал все, что находил — гвозди, пуговицы, веревочки и т.п., чем вызывал у нас, молодых, возмущение. «Плюшкин», — с презрением говорили мы ему. Нам казалось, что это унижает его и нас. Но отец посмеивался, не обращая внимания на наше возмущение. И вот приходила такая минута, когда кому-нибудь из нас понадобились, как говорится, «до зарезу» пуговица, веревочка или гвоздик, и тогда, торжествуя, отец извлекал из своих запасов нужную нам вещь, и… приходилось принимать, к его великому удовольствию.
У отца было в Симбирске много друзей. Я сейчас помню только некоторые фамилии: Яковлевы, Ел. В. Василькова, В. С. Гаевский, Н. И. Ашмаринов, Д. И. Архангельский.
Все очень охотно приглашали к себе отца. В самую разлуку, когда встречаться друг с другом было сложно, отец был желанным гостем. Конечно, его везде поили чаем, угощали, кто чем мог. Поэтому он часто отказывался дома от своей порции обеда, говорил, что его уже накормили. А потом начал и нам приносить угощения, рассказывая, что, когда его в гостях чем-нибудь потчевали, — он говорил, что не может есть, так как у него дома голодные дочки. Мы возмущались, стыдили его, но… как в голодные дни отказаться от пирожков с картошкой?!
В те годы Жиркевич, сам нуждаясь, шлет посылки в Москву своему другу по Вильне, еврейскому ученому Ф. Б. Гецу. Пишет трогательное письмо в Американскую Миссию оказания помощи нуждающимся Поволжья «Ара» об умирающем в голоде и холоде художнике Н. Ф. Некрасове и счастлив, что удается выхлопотать для него и вещи, и питание. Посылает также продуктовые посылки поэту А. А. Коринфскому в Петроград.
* * *
Время идет к старости. Умирают друзья, знакомые. Все меньше приходит писем. Изредка пишет А. Ф. Кони. Как радуется тогда отец! [55]
Вся жизнь ушла на борьбу за улучшение быта заключенных, сумасшедших, слепых, детей, на спасение старины. Все где-то рассеяно, и только в альбомах следы его деятельности — письма, благодарности… и это лишь частица того, за что воевал «Борец за правду», как его называли друзья.
Говоря в автобиографии о себе в третьем лице, отец пишет: «Ему больно видеть развалины того, что он создавал с любовью и убеждением… Но потом его успокаивает, мирит с катастрофами на культурно-благотворительной почве сознание, что все это духовно легло в общую сокровищницу жизни родного ему народа, почему и не может пропасть бесследно, а когда-нибудь в чем-либо еще в грядущем проявится; что имя его забудется — Жиркевича не печалит. Сколько великих русских забыто. Тем не менее незримый след их деятельности остался в душе народной… Так понимать свое личное бессмертие — великое счастье».
Жизнь понемногу входит в мирное русло. Отец много работает архивариусом, но зарабатывает очень мало. Умирающей жене он дал слово, что приложит все силы, чтобы помочь дочерям получить образование. И вот в 1922 г. он продает в Ульяновский художественный музей свою коллекцию картин. Всегда отдавая коллекции и старину бесплатно, отец горюет, что приходится продавать картины, и назначает минимальную цену. [56]
Передача картин вызывает многочисленные отклики в газетах. Так, в «Правде» от 3 августа 1922 г. появляется статья Валевского. Статья кончается так: «…революция строго расправляется со всеми генералами, подло вредившими ей. Но она с глубочайшей чуткостью относится к тем, кто хочет служить народу, и об этом может также рассказать теперь гражданский генерал из Симбирска».
Деньги тают очень быстро. Жиркевич ищет себе работу, которая дала бы ему возможность помогать дочерям. Предлагает себя в качестве музейного работника, лектора, но безуспешно. В то далекое беспокойное время думать о нем было некому, а о себе хлопотать он не умел. Тогда он решается выехать в Вильну, где надеется найти и продать оставленное при эвакуации имущество.
Перед отъездом, зная, что его учащиеся дочери, живущие по общежитиям, не смогут сохранить его бумаг, он передает их в дар архиву при музее Л. Н. Толстого. Примерно в это же время он жертвует, безвозмездно, свою коллекцию старинного оружия в Румянцевский музей Москвы. [57]
Пристроив свои коллекции и свой архив, он уезжает в 1926 г. в родную Вильну. Там ждет его тяжелый удар — все оставленные коллекции и обстановка пропали… Ему удается реализовать кое-что из земельного имущества жены и выслать дочерям деньги.
В марте 1927 г. он тяжело заболел.
Я хотела выхлопотать визу и приехать ухаживать за ним, но слабеющей рукою он пишет: «Не смей приезжать! Я не разрешаю тебе, и мы навсегда рассоримся! Жить же с тобой я не буду! Ваша жизнь должна быть в России — здесь все чужое!!» [58] 13 июля 1927 г. его не стало.
Много делал хорошего отец. Мужественно, часто в ущерб своему материальному благополучию и здоровью боролся он за «униженных и оскорбленных», за спасение старины, и, когда ему удавалось что-то спасти, кому-то помочь, он был поистине счастлив. В своей автобиографии отец пишет, что «разменявшись на мелочи, он не мог создать ничего большого».
Но нельзя назвать «мелочами» ту большую общественную работу, которую он делал всю жизнь, стараясь обратить внимание на участь заключенных в тюрьмах и гауптвахтах и облегчить их существование, хлопоча об освобождении неправильно заключенных, стараясь спасти от каторги, снять кандалы с больных, освободить из тюрьмы слепых.
А его работа в детских приютах, военных госпиталях, хлопоты о пенсиях вдовам, больным, старикам, забота об умалишенных? И разве мелочи — восстановление доброго имени, пусть уже умершего, но невиновного человека и восстановление могил и памятников на них?
А масса коллекций, которые он собирал для истории и жертвовал в музеи Родины? И сколько под его влиянием и при его непосредственном участии написано интересных автобиографий общественными деятелями, художниками, писателями — все это для истории.
И ему не приходило самому в голову, что то «большое» в литературе, что он мечтал создать, это его мемуары — «Заметки».
Когда отец умер, я написала, чтобы его похоронили на лютеранском кладбище в той же могиле, [59] где лежит его любимый сын и стоит памятник, на котором выгравированы стихи отца, посвященные сыну:
Все было в нем необычайно:
Таланты, сердце, ум и красота,
Возвышенность мечты, правдивые уста
И смерти скоротечной тайна…